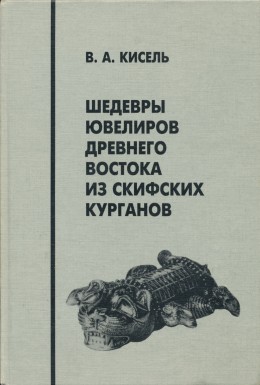 В.А. Кисель
В.А. Кисель
Шедевры ювелиров Древнего Востока из скифских курганов.
// CПб: «Петербургское востоковедение». 2003. 192 с. ISBN 5-85803-245-1
Глава III.
Анализ памятников торевтики.
Все известные изделия торевтов, обнаруженные в ранних скифских курганах, делятся на несколько категорий — это оружие и предметы, связанные с вооружением, украшения, детали мебели, посуда, орнаментальные принадлежности транспортных средств, а также вещи, до сих пор точно не атрибутированные (Приложение II).
^ Оружие представлено двумя мечами в золотых ножнах (кат. 1, 4) с портупейными принадлежностями — восьмёркообразной пряжкой (кат. 2) и соединённой с трубкой ромбовидной обкладкой (кат. 3), происходящими из Литого кургана и Келермеса, и секирой из Келермеса (кат. 5).
^ Мечи, несмотря на разницу в размерах (длина мельгуновских ножен 43,9 см, длина келермесских — 47,0 см), относятся к одному типу акинаков с прямым брусковидным навершием и сердцевидным перекрестьем (2-й тип I отдела, по А.И. Мелюковой [Мелюкова, 1964, с. 50]), бытовавшему в скифском мире в VII — начале IV в. до н.э. Рукоятки мечей, перекрестья и ножны облицованы золотыми пластинами, декорированными с двух сторон аналогичными фигурами, а также геометрическими и растительными мотивами. Изображения на обоих предметах сходны, хотя и не являются точными копиями друг друга.
Брусковидные навершия мечей имеют напаянные сверху прямоугольные золотые пластинки с идентичным геометрическим узором из зерни. На мельгуновском экземпляре с двух сторон пластинки показаны дополнительные ромбические знаки (подобные знаки нанесены и внизу навершия по сторонам рукоятки). Боковые грани наверший украшены индивидуально (мельгуновский меч — полосой из стилизованных бутонов и цветов, келермесский — четырьмя продольными рядами выпуклых уголков). На рукоятках изображена дважды повторяющаяся схема «древа жизни», но разделительные линии выполнены по-разному (на мельгуновском мече — композиция из ромбов и окружностей, на келермесском — ветки с листьями). Перекрестья акинаков декорированы схемой «древа жизни», розетками и геральдически расположенными фигурами (мельгуновский меч — лежащие козлы, келермесский — крылатые гении). Устья ножен повторяют форму перекрестий и их орнамент с той только разницей, что на мельгуновском образце вместо козлов даны гении. Оформление овалообразных выступов ножен для крепления их к поясу в общих чертах сходно: в центре помещена фигура лежащего оленя со стилизованными рогами, а по краю идет волнистый бордюр, на мельгуновских ножнах это спиралевидные завитки, украшенные уголками, а на келермесских — головы хищных птиц. Идентично выполнены бутероли — рельефные фигуры геральдически расположенных львов, вписанные в уплощённый круг. На келермесской бутероли между хищниками расположен дополнительный ромбический знак. Ножны мечей по всей длине орнаментированы восемью фантастическими существами, идущими друг за другом по направлению к устью. Фигуры чудовищ скомпонованы из отдельных частей тел животных (бык, лев, баран, хищная птица, скорпион, пресмыкающее-
(28/29)
ся (?), газель (?)) и человека. На мельгуновских ножнах натянутыми луками со стрелами вооружены все монстры, на келермесских — только четверо (каждый второй).
Вся орнаментика выполнена в технике чеканки и металлопластики [Галанина, 1989, с. 259; 1997, с. 222-223; Минасян, 1991, с. 381]. До сих пор среди исследователей преобладает точка зрения, что рисунки на золотых пластинах вторичны по отношению к изображениям на мечах и ножнах, то есть, иными словами, орнаментация производилась в технике басмы. Это маловероятно, так как трудно представить, что торевты достигли бы такой подробности в передаче мелких деталей, чеканя непосредственно по железу акинаков, или мастера избежали бы сколов, вырезая на дереве ножен столь сложные по конфигурации элементы фигур. Скорее всего, декор на рукоятках, принимаемый учёными за первичный, является негативом с обкладки, проявившимся в результате коррозии металла [Р.С. Минасян, устное сообщение].
Неоднократно в археологической литературе отмечалась стилистическая неоднородность в декоре мечей. Действительно, достаточно беглого взгляда, чтобы сразу выделить ближневосточные и скифские мотивы. К последним исследователи обычно относят лежащего оленя и головы хищных птиц, а также свернувшихся кошачьих хищников на портупейной детали [Галанина, 1991, с. 21; 1997, с. 94]. Но из перечисленных изображений только фигуры оленя и кошачьих хищников могут считаться прямым заимствованием из звериного стиля, да и то с некоторыми отступлениями от скифского канона. У оленей появились слезницы и дуговидные складки. На ухе «мельгуновского» животного показана шерсть. У «келермесского» копытного количество надглазных роговых отростков увеличилось до трёх. Кошачьи хищники, сохранив традиционно скифскую позу свёрнутого в кольцо животного, приобрели чрезмерно удлинённую морду и заострённое ухо, что позволяет исследователям трактовать их как волкообразных [Васильев, 2000, с. 11-12]. Бордюр же из голов птиц не представляется чисто скифским стилистическим элементом, скорее это вольная переработка урартского S-образного узора, запечатлённого, в частности, на мельгуновских ножнах [Черненко, 1980, с. 24].
Относительно стилистической принадлежности остальных изображений высказывались различные мнения. В качестве основных источников предлагались художественные школы Ассирии [Придик, 1911, с. 14, 20], Ирана [Ростовцев, 1925, с. 470] и Урарту [Иессен, 1947, с. 45; Пиотровский, 1959, с. 249-251]. Наибольшее число сторонников приобрела, благодаря разработкам Б.Б. Пиотровского [Пиотровский, 1954; 1959], последняя гипотеза. Но, как справедливо отмечал сам исследователь, а позднее — М.Н. Ван Лоон, эти предметы нельзя воспринимать как чисто урартские памятники. На них даже в урартских по общему облику фигурах чудовищ ощущается отступление от художественных канонов Урарту. Оно выражается чрезмерной перегруженностью изображений фантастическими деталями [Пиотровский, 1959, с. 252; Van Loon, 1966, с. 175]. Всё же можно утверждать, что торевты, украшавшие скифские мечи и ножны, не имитировали урартскую стилистическую манеру, а были воспитаны на ней. В противном случае мелкие, на первый взгляд незначительные, элементы были бы утрачены или видоизменены (схема «древа жизни», трактовка волосяного покрова животных, стилизация мускулатуры, узор из бутонов и цветов, ромбический знак). По-видимому, отступление от жёстких правил урартского искусства объясняется ориентацией мастеров на скифского заказчика.
По мнению Е.В. Черненко, в орнаментике келермесских и мельгуновских ножен зафиксированы самые ранние изображения луков «скиф-
(29/30)
ского» типа [Черненко, 1980, с. 15-16]. Однако форма этих луков имеет мало общего с небольшим М-образным скифским луком. Представляется более справедливым трактовать показанное здесь оружие как сложные или сложносоставные сегментовидные луки, которые были широко распространены на Ближнем Востоке начиная с конца III тыс. до н.э. [Ghirshman, 1964, ill. 388, 390b; Горелик, 1993, с. 68, табл. XLI, 12, 21, 22, 24, 25-31, 33, 34, 42, 43, 45, 47-53, 55-60, 64, 71, 76-78; Born, Seidl, 1995, Abb. 75, 77]. Косвенным подтверждением этому заключению может служить тип изображённых на ножнах стрел. Их подтреугольные наконечники имеют отогнутые наружу концы. В скифском арсенале подобные стрелы не известны. Зато на Ближнем Востоке аналогии обнаружены при раскопках Кармир-Блура [Пиотровский, 1970, кат. 54, 55, 122], крепости Салманасара [Mallowan, 1966, N332е] и Марлик Тепе [Haerinck, 1988, pl. 64, 2], а также зафиксированы на урартских памятниках искусства IX — первой половины VII в. до н.э. [Merhav, Seidl, 1991, N47, 75, 76; Kellner, 1991, N7b]. He исключено, что и косые кресты, а также поперечные штрихи на руках фантастических существ (своеобразная защита от удара спущенной тетивы?) указывают на ближневосточное происхождение вооружения чудовищ. Нечто подобное представлено на ассирийских рельефах IX-VII вв. до н.э. [Hrouda, 1965, Taf. 21, 11, 14; Barnett, 1975, pl. 30, 32, 34, 116, 119, 121, 122, 127] и луристанской бронзовой пластине [Amiet, 1976, pl. 81].
Почти все исследователи, изучавшие келермесские и мельгуновские древности, избегали датировать мечи на основе стилистического анализа предметов 1. [1] Пожалуй, самой удачной была попытка Е.В. Черненко. Отталкиваясь от N-образных знаков на бёдрах животных, имеющих аналогии на ассирийских и урартских памятниках, он отнёс мечи к концу VII в. до н.э. [Черненко, 1989, с. 15, 25]. Однако Е.В. Черненко не уделил достаточного внимания знакам в виде треугольника и изогнутого листа, показанным на мельгуновских ножнах у чудовищ с львиными телами. Между тем эти символы находят точные параллели на хорошо датированном урартском рельефе из Адылджеваза (680-645 до н.э.), на котором присутствуют и другие аналогии некоторым стилистическим элементам мечей и ножен (позы гениев, типы их одеяний, строение, форма и размещение крыльев, абрис чаши и бутона в руках, растительные мотивы, ромбовидные знаки, стилизация птичьих голов, трактовка волосяного покрова животных) [Van Loon, 1990, pl. XX].
Таким образом, время изготовления мечей из Литого кургана и Келермеса следует отодвинуть вглубь VII в. до н.э. и датировать их второй-третьей четвертью века.
Что касается места изготовления этих предметов, то следует присоединиться к возобладавшей в настоящий момент точке зрения о производстве их в ближневосточной мастерской при царской ставке скифов [Галанина, 1991, с. 23].
^ Секира, найденная в одном из Келермесских курганов (кат. 5), — другой интереснейший памятник торевтики. Обух и проушина железного топора украшены золотыми пластинами. Длинная рукоятка изготовлена из дерева и по всей длине заключена в золотой кожух, спаянный из двух
(30/31)
(?) полос 1. [2] На её торцы надеты золотые же наконечники, составленные из свёрнутой в кольцо ленты с напаянной сверху плоской крышкой. Наконечники прибиты к рукоятке четырьмя золотыми гвоздиками, а также припаяны к кожуху.
По общим очертаниям секира сближается с закавказскими (VII-V вв. до н.э.) 2 [3] и скифскими (VII-VI вв. до н.э.) 3 [4] топорами — молотками с узким слабо расширяющимся лезвием, без чёткого бокового расширения в районе проушины [Iллiнська, 1961, с. 38; Мелюкова, 1964, с. 66-67; Есаян, Погребова, 1985, с. 79-88]. Местом сложения топоров этого типа исследователи называют Кавказ [Iллiнська, 1961, с. 52; Мелюкова, 1964, с. 67; Погребова, 1969, с. 186-187]. Уникальность келермесской секире придаёт богато орнаментированная золотая отделка. На обкладках чеканкой и металлопластикой нанесены фигуры животных, человека, растительные и геометрические мотивы. Все изображения выполнены в высоком рельефе и переданы с обеих сторон топора и рукоятки в зеркальной симметрии, что создаёт впечатление круглой скульптуры [Переводчикова, 1979, с. 145; Черненко, 1987, с. 20]. Торец обуха украшают четыре скульптурки козлов, отлитых, вероятно, по утрачиваемой модели и спаянных попарно.
Традиция скульптурного оформления обухов топоров известна с III тыс. до н.э. На Ближнем Востоке она возникает, скорее всего, в Эламе, а в конце II-I тыс. до н.э. распространяется на Центральный Кавказ, в Приуралье, в некоторые районы Сибири, Китая и Юго-Восточной Азии [Погребова, 1984, с. 73-83, 86-88, табл. III]. Архаические скифо-сибирские топоры, клевцы и чеканы с подобными украшениями вряд ли имеют дату ранее второй половины VII в. до н.э. Но можно предположить, что к моменту изготовления келермесской секиры сама идея скульптурной орнаментации оружия уже бытовала в кочевнической среде, судя по бронзовому топору со сдвоенными фигурами кабанов из Минусинской котловины, относящемуся приблизительно к первой половине VII в. до н.э. [Завитухина, 1983, кат. 83]. Наиболее близкие аналогии секире встречаются на топорах из Ирана, где наблюдается точно такой же плавный переход от скульптур животных к обуху [Погребова, 1984, с. 87]. Но совпадение здесь не совсем полное, так как у келермесского образца под фигурками имеется дополнительная пластина-подставка. Аналогичная деталь фиксируется только на кавказских топорах конца VII — начала VI в. до н.э. [Погребова, 1984, с. 83], что может указывать на связь келермесской находки с продукцией кавказских литейщиков.
Подавляющее большинство орнаментальных мотивов секиры — это изображения животных, включающие 33 отдельные фигуры и две многофигурные композиции. Особняком стоит изображение человека, помещённое сверху и снизу обуха топора.
Среди животных представлены стилизованные безоаровые козлы, благородные олени, лоси, лошади, кабаны, антилопы, джейран, газель, лань,
(31/32)
косуля, лев, пантера/барс, какой-то зверь (рысь? заяц?). Имеются фигуры двух фантастических существ, составленных из частей тел различных животных. Одна из них представляет собой бурого медведя со стопами в виде голов хищных птиц, другая воплотила в себе черты слона, кабана и хищной птицы (рис. 32) 1. [5]
Единственным исследованием, специально посвящённым стилистике секиры, является работа Е.В. Переводчиковой [Переводчикова, 1979]. В ней автор сумела выделить отличительные стилистические признаки, свойственные определенным видам животных [Переводчикова, 1979, с. 146-150; 1994, с. 68-70].
Не подвергая критике сам принцип стилистического подразделения фигур, можно предложить иную группировку изображений. Отправной точкой для неё послужит «солярный» символ, выполненный на одних фигурах и отсутствующий у других. На этом основании в I группу (с символом) вошли лев, пантера/барс, быки, козлы, антилопы и газель, во II группу (без символа) — рысь (?), фантастический медведь, грифонослон, заяц (?), оленевые, кабаны и лошади. I группа представлена преимущественно теплолюбивыми животными, обитателями предгорий, засушливых степей и полупустынь, а II — зверями, заселяющими, как правило, более влажные, прохладные климатические зоны: леса, разнотравные степи, заболоченные местности. Фантастические существа также относятся ко второй группе. Не совсем ясно, куда следует поместить козлов, изображенных по бокам обуха и проушины топора (рис. 2 — №2, 5). Без сомнения, они очень близки к животным на торце обуха и конце рукоятки (рис. 2 — №1; рис. 6 — №36), которые входят в I группу. Но отсутствие «солярного» знака не позволяет безоговорочно отнести их туда. Вероятно, несоответствие в деталях у принципиально одинаковых изображений возникло в результате того, что украшением топора и рукоятки занимались два разных мастера. Подтверждением этому служит сравнение манеры исполнения фигур. Орнаментальное оформление рукоятки выполнено более аккуратно и профессионально, чем изображения на обухе и проушине.
В предлагаемом ниже стилистическом анализе сначала будут рассмотрены художественные особенности, общие для всех фигур животных, а затем — отличительные черты выделенных групп.
^ 1. Позы животных.
Большинство травоядных показаны лежащими с подогнутыми ногами, при этом передние ноги покоятся на задних. Такая поза не могла быть заимствована мастером/мастерами из искусства Ближнего Востока, где, по традиции, ноги лежащих копытных изображались на одной линии, не заходящими друг на друга [Погребова, Раевский, 1992, с. 140]. Скорее всего, был скопирован канон древнекочевнической художественной традиции [Погребова, Раевский, 1992, с. 142], представленный, например, на золотых бляшках Большого Гумаровского кургана [Исмагилов, 1988, рис. 4], кургана 5 Чиликты [Черников, 1965, табл. VIII, IX, XI, XII] (рис. 7, 8).
На секире скифская схема воплощена не совсем удачно: бёдра животных располагаются по отношению к туловищу перпендикулярно, а не вперёд под острым углом. Такое несоответствие может объясняться непониманием мастером традиционных образов скифского звериного стиля.
Среди фигур козлов, относящихся к I или II группе, некоторые представлены лежащими с повёрнутой назад головой. Подобные изображения известны на памятниках скифо-сибирского мира [Зуев, 1993, рис. 4; 5,
(32/33)
12-15; 7]. Однако они были созданы, очевидно, одновременно с келермесскими или даже позже. Более ранние древнекочевнические изображения копытных в такой позе (как правило, оленей) встречаются крайне редко (оленный камень с реки Иволги, пластина из кургана 45 Тагискена). Напротив, на Ближнем Востоке эта сюжетно-композиционная схема была одной из наиболее характерных начиная с III-II тыс. до н.э. [Parrot, 1960, №357d; Членова, 1967, с. 125, табл. 32, 29-31]. Одним из косвенных подтверждений чужеродности скифскому искусству мотива лежащего копытного с повёрнутой назад головой может служить сравнительный анализ фигур серебряного зеркала из Келермеса (кат. 46). На нём среди животных, обычных для звериного стиля (пантера, баран, кабан, козёл), только изображение козла в той же позе не несёт на себе совершенно никаких элементов, присущих древнекочевнической традиции [Погребова, Раевский, 1992, с. 143-144; Кисель, 1993, с. 119].
Большинство хищников, запечатлённых на секире, представлены лежащими, припавшими на лапы и опустившими голову. Для этой иконографической схемы наиболее близкими аналогиями являются фигуры пантер на серебряном диске, диадеме и ручках керамических сосудов из Зивие [Погребова, Раевский, 1992, рис. 1 б, в, д, е]. Некоторые исследователи считают, что образ кошачьего хищника в такой позе зародился на Ближнем Востоке, ссылаясь при этом на иранские аналогии — памятники Хасанлу и Луристана [Погребова, Раевский, 1992, с. 92-95]. Но, несмотря на некоторое сходство, изображения на вещах из Ирана нельзя ставить в один ряд с фигурами из Зивие и Келермеса. Во-первых, у иранских зверей головы обычно подняты, а не опущены; во-вторых, хвосты у них закручиваются вверх на спину, а не свободно свисают. Наиболее близкие параллели келермесским фигурам встречаются на золотых бляшках из кургана 45 Тагискена [Толстов, Итина, 1966, рис. 17, 4, 6] и кургана 1 Ульского аула [Артамонов, 1966, ил. 17], на резных костяных изделиях из Малгобека [Ильинская, Тереножкин, 1983, рис. 11 на с. 45] и кургана в уроч. Дарьевка [Ильинская, 1975, табл. XXXIV, 2], на оленном камне из Монголии [Волков, 1981, табл. 31, 1].
^ 2. Геральдические композиции (парные изображения животных, выполненные в зеркальной симметрии).
На секире присутствуют две подобные композиции: скульптуры козлов на торце обуха (рис. 2 — №1) и фигуры кабанов на нижнем наконечнике рукоятки (рис. 5 — №7).
Парные изображения животных появляются на Ближнем Востоке в конце IV тыс. до н.э. в древнеегипетском искусстве, а в III тыс. до н.э. — в Месопотамии. Позднее этот художественный мотив распространился по всей Передней Азии и за её пределами [Погребова, 1984, с. 146]. Однако основной источник, повлиявший на создание на секире геральдических фигур, не совсем ясен, поскольку и в древнекочевническом искусстве на самом его раннем этапе существовали подобные схемы. Таковы изображения на гальке из Тувы и бронзовые навершия из с. Корсуково Иркутской обл. [Зуев, Исмагилов, 1995, рис. 1, 1, 2; 3], изображения на костяной поделке из кургана 13 близ с. Новозаведённое [Петренко, Маслов, Канторович, 2000, рис. 5, 15]. Кроме того, геральдические композиции известны и в окуневской художественной традиции эпохи бронзы [Ковалёв, 1997, табл. VIII]. Но южносибирское влияние можно предполагать только относительно композиции с фигурами кабанов, так как ближневосточное происхождение скульптур козлов вполне очевидно. Мотив сдвоенных козлов очень часто встречается в ближневосточной глиптике III-
(33/34)
II тыс. до н.э. [Членова, 1967, табл. 29, 31; Афанасьева, 1979, рис. 34а; Özgüç, 1993, р. 532, fig. 14] и среди ахеменидской скульптуры [Матье, Афанасьева, Дьяконов, Луконин, 1968, ил. 319б]. Он был устойчив для этого региона и длительное время почти не подвергался переработке.
^ 3. Трактовка лап и ног животных.
Почти у всех зверей, кроме «медведя», конечности отделены углублёнными линиями от лопаток и бёдер, мускулы показаны двойным контуром, а суставы намечены штрихами. Лопатки напоминают овал и обведены двойной чертой. У подавляющего большинства животных лопатки и бёдра имеют выемки. Ближайшие аналогии подобному изображению лап и ног зверей встречаются среди иранских костяных изделий IX в. до н.э. из Хасанлу [Muscarella, 1980, р. 77, №156; р. 81, №170] и памятников урартского искусства VIII-VII вв. до н.э. [Vanden Berghe, De Meyer, 1983, cat. 29, 139, 140].
У многих копытных на секире на задней ноге показан двойной изогнутый штрих, который отходит от мускула в месте соединения бедра с ягодицей. Вероятно, он является рудиментом второго мускула и демонстрирует некоторое видоизменение урартского канона [Vanden Berghe, De Meyer, 1983, cat. 140; Van Loon, 1990, pl. XXVIIIc]. В данной связи примечательно, что на лопатке грифонослона, под выемкой, помещён завиток, напоминающий аналогичный стилистический элемент на фигурах львов и быков на бронзовом щите Сардури II (ок. 760-730 до н.э.) из Кармир-Блура [Пиотровский, 1962, ил. XXIV, XXV; Akurgal, 1968, Abb. 20, 50] и льва на золотом медальоне 800-750 гг. до н.э. [Van Loon, 1990, pl. XXVIId] (рис. 9). Таким образом, рисунок конечностей животных на секире выполнен, очевидно, по традиционной схеме искусства Урарту VIII-VII вв. до н.э., но в сильно утрированном виде.
Что касается выемок, показанных на лопатках некоторых зверей, то подобный изобразительный приём также характерен для художественных школ Ближнего Востока. Самой близкой параллелью вновь являются памятники урартской школы [Akurgal, 1968, Abb. 28-31], в частности на вышеупомянутом медальоне фигура льва, у которого контур лопатки также обведён двойной линией, выемка чётко очерчена и имеет острую вершину, а в месте соединения лопатки с лапой изображен кружок, похожий на «завиток», показанный у грифонослона (рис. 32).
Однако следует иметь в виду, что выемчатые лопатки фиксируются уже на изображениях медведя и козла на бронзовых бляшках из кургана в уроч. Тамды, выполненных в традициях древнекочевнического искусства [Бернштам, 1952, рис. 128, 2, 5; 139] (рис. 10).
Выемки на бедрах животных наблюдаются на памятниках Ирана, Урарту и рельефах Телль-Халафа [Bossert, 1951, Abb. 458, 460, 461, 464, 481]. Этот приём широко применялся также в раннем скифском зверином стиле, что подтверждают бляшки в виде козла из Тамды и оленя из Чиликты, петроглифы с Жалтырак-Таша [Гапоненко, 1963, рис. 9] (рис. 11), нож из кургана 21 Уйгарака [Вишневская, 1973, табл. VI, 4], костяная пластина из Константиновского кургана [Мурзин, 1984, рис. 2, 3], бляха-олень из кургана у ст. Костромской (кат. 14), бляха-пантера из Сибирской коллекции Петра I [Артамонов, 1973, ил. 174].
На основании рассмотренных аналогий можно предположить, что в целом трактовка лап и ног животных на секире является несколько утрированным продолжением урартской художественной традиции VIII-VII вв. до н.э., обогащённой дополнительным приёмом (выемка на бедре), который был заимствован из других ближневосточных культур (воз-
(34/35)
можно из Северной Сирии) или архаического звериного стиля древних кочевников.
^ 4. Кольчатые окончания лап и хвостов.
Некоторые животные (лев, пантера/барс, рысь? заяц?) имеют лапы, оканчивающиеся кольцами. У льва, пантеры/барса и быков кольцами завершаются также хвосты.
В круге ближневосточных древностей устойчивая манера изображения стоп и кисточек хвостов в виде колец не прослеживается и является привнесённым извне, чуждым элементом [Kossack, 1987]. Зато в кочевническом мире это — один из наиболее характерных художественных приёмов, появившийся ещё на ранней стадии скифского искусства [Шер, 1980а, с. 342-346, рис. 1] (рис. 12, 13).
Изображения неправильных колец, завершающих лапы животных, трудно отличимы от петель. Однако это — два совершенно различных элемента, существовавших независимо друг от друга. По мнению М.Н. Погребовой и Д.С. Раевского, петлевидный элемент в зверином стиле, появившись в результате трансформации художественной манеры Луристана, дал начало кольцевидному [Погребова, Раевский, 1992, с. 95, 104]. С этим трудно согласиться, поскольку оба художественных приёма появляются на Ближнем Востоке, Кавказе и в европейской Скифии почти одновременно, а в азиатском скифо-сибирском мире кольцевидный элемент фиксируется даже раньше петельчатого. Вполне возможно, что самые ранние петлевидные стопы на изображениях хищников представлены в комплексе Зивие, как и предполагают М.Н. Погребова и Д.С. Раевский. Но большинство этих фигур, если не все, были выполнены переднеазиатскими мастерами, копировавшими скифский образ кошачьего хищника с кольчатыми окончаниями лап, сложившийся в степях Азии. Произведения же собственно скифских мастеров с петлевидной стилизацией лап — навершия ручек на костяной ложке из уроч. Дарьевка [Ильинская, 1975, табл. XXXIV, 2] и бронзовом зеркале из уроч. Скоробор [Археология СССР, 1989, табл. 39, 23], скорее всего, фиксируют внедрение в скифское искусство нового элемента, зародившегося на Ближнем Востоке.
Изображения кольцевидных окончаний хвостов хищников появляются на самых ранних памятниках звериного стиля, относящихся к VIII-VII вв. до н.э., — бронзовой бляхе из Аржана [Грязнов, 1980, рис. 15, 4], золотых пластин из Майэмира [Баркова, 1983, табл. 1, 6, 7], золотых бляшках из Чиликты [Черников, 1965, табл. XVI, 1]. Большинство же ближневосточных фигур, подражающих скифским образам, не имеют кольцевидных окончаний. Вместо них присутствуют петли или спирали (предметы из Зивие [Погребова, Раевский, 1992, рис. 1], бутероли из Сард [Ghirshman, 1979, fig. 1] и Ирана [Переводчикова, 1983, рис. I, 1]).
Появление колец на хвостах быков на секире, вероятно, тоже связано с влиянием искусства древних кочевников (рис. 11а), творцы которого могли заимствовать этот элемент из художественного наследия предшествующих азиатских культур [Марьяшев, Рогожинский, 1987, рис. 1, 11, 13; Молодин, 1993, рис. 1, 5; 4, 14].
^ 5. Трактовка морд животных.
Морды всех животных, как хищников, так и травоядных, выполнены по единой схеме: пасть/рот передается в виде открытого двойного полуовала, а ноздри и подбородочный выступ — как два кружка. Данная схема имеет варианты. У хищников кружки превращены в кольца. У кабанов пятачок трактуется не как кружок, а как двойная подпрямоугольная фигу-
(35/36)
pa. У травоядных подбородочный выступ изображен в виде овала, а к маленькому кружку-ноздре добавлен слегка изогнутый двойной треугольник — лоб.
Наиболее выразительным вариантом схемы является манера стилизации морд хищников и травоядных. Морды хищников, представленные разомкнутым овалом с двумя кольцами, находят полную аналогию на фрагменте керамического сосуда из Зивие [Ghirshman, 1964, ill. 172] (рис. 18). Подобная трактовка, как считают М.Н. Погребова и Д.С. Раевский, могла появиться в результате видоизменения звериных морд, стилизованных в V-образную фигуру с петельками на концах, которая известна в луристанском искусстве [Погребова, Раевский, 1992, с. 95, 98, 101-104]. Конечно, такой путь возникновения «келермесской» схемы возможен, но и он не единственный. Например, не исключено, что на секире запечатлено слияние V-образной «восточной» трактовки с традиционной «скифской» стилизацией, при которой на морде хищника обозначались пасть — разомкнутый овал и ноздря — кольцо (рис. 12, 13, 20).
Манера исполнения голов травоядных животных на секире тоже находит самые близкие аналогии в комплексе Зивие (рис. 14, 15, 17, 19). Точно так же переданы морды и у фантастических травоядных существ на ножнах мечей из Келермеса (кат. 1) и Литого кургана (кат. 4) (рис. 21, 22). Однако если обратить внимание на изображения, наиболее точно передающие каноны скифского звериного стиля — оленей на выступах келермесских и мельгуновских ножен, наконечнике (кат. 44) и обкладке горита из Келермеса, на бляхе из ст. Костромской (кат. 14), то при сохранении общей схемы стилизации морды животного бросается в глаза отсутствие треугольника на лбу [Piotrovsky, Galanina, Grach, 1986, pl. 16, 20, 23]. И это не случайно, поскольку в раннем скифо-сибирском искусстве образ оленя трактовался иначе, чем на секире и предметах из Зивие. На чиликтинских бляшках отсутствует не только треугольник на лбу, но и подбородочный выступ (рис. 8), а на гумаровских — ноздря, рот и подбородок вообще слились в кольцевидную фигуру [Исмагилов, 1988, рис. 4] (рис. 7). В поисках истоков стилизации морд травоядных животных на келермесской секире могут помочь пекторали и «эполет» из Зивие [Ghirshman, 1964, ill. 105, 106, 377, 379] (рис. 17, 19), а также ножны из Келермеса и Литого кургана (рис. 21), изображения на которых выполнены под сильным влиянием урартского искусства [Пиотровский, 1959, с. 248-255]. Именно в Урарту в VII в. до н.э. появляются памятники с фигурами копытных, контуры морд которых аналогичны рассмотренной схеме [Vanden Berghe, De Meyer, 1983, cat. 113, 116].
^ 6. Манера изображения глаз.
Глаза животных, как и морды, представляют собой одну и ту же модель: круглое глазное яблоко, обрамлённое дугами (две дуги сверху, одна снизу). Верхние дуги обычно сомкнуты друг с другом концами. Приблизительно у одной трети от общего числа изображений к одному концу нижней дуги под углом примыкает короткий штрих — слезница. В общую картину не вписываются только лошади, у которых глаза стилизованы как полукруг.
Трактовка глаза в виде круга, обрамлённого дугами, встречается на предметах из Зивие (рис. 14, 15, 17, 19), а также на ножнах из Келермеса и Литого кургана (рис. 21, 22). Среди ближневосточных материалов известно большое число аналогий. Но, пожалуй, особенно часто они встречаются в урартском искусстве VIII-VII вв. до н.э. [Akurgal, 1959, Taf. XIII-XV; Vanden Berghe, De Meyer, 1983, cat. 85, Afb. 37, cat. 41].
(36/37)
Правда, совпадение с урартской схемой не абсолютно точное: под глазным яблоком иногда отсутствует дуга, а верхних дуг значительно больше. Но общий рисунок тот же.
Что касается глаз лошадей, то параллели снова отыскиваются на урартских памятниках [Merhav, Seidl, 1991, N2; Kellner, 1991, N7а, в, 9, 10].
^ 7. Стилизация ушей.
Образцом передачи ушей животных послужила одна и та же модель — перевёрнутая длинная «запятая» с отходящими от неё под углом штрихами. И вновь аналогиями служат образцы урартского искусства [Vanden Berghe, De Meyer, 1983, Afb. 28, cat. 85, 115, 116; Kellner, Merhav, Kohlmeyer, Zahlhaas, 1991, N5; Kellner, 1991a, N4] (рис. 24, 26). Идентично выполнены уши козлов и некоторых фантастических существ на перекрестье меча и ножен из Литого кургана и на ножнах из Келермеса (рис. 21, 22).
В урартском искусстве подобные уши изображались только у копытных, но на секире и ножнах из Литого кургана такие же есть и у хищников, что свидетельствует об отходе от каноничной урартской традиции.
В искусстве кочевников с VI в. до н.э. этот ближневосточный стилистический элемент приобрёл большую популярность и использовался довольно долго [Руденко, 1960, рис. 136и, 142б, е, 143и, 144к, 146в, 148к, 150а, 151е, 152д; Акишев, 1978, табл. 5, 19, 21; Piotrovsky, Galanina, Grach, 1986, pl. 70, 106, 107].
^ 8. Основные особенности животных первой группы.
Важнейшим элементом первой выделенной группы является, как уже указывалось, «солярный» знак.
^ 1. Знак.
Традиция помечать тела зверей различными символами имеет на Востоке глубокие корни. По-видимому, впервые она фиксируется во II тыс. до н.э. в Египте. Знак представлял собой круглую фигуру, образованную изогнутыми штрихами, выходящими из общего центра. Обычно он наносился на лопатки хищников.
Из Египта метка-символ, вероятно, перешла в сиро-финикийское и хеттское искусство, где она в одних случаях фигурировала как копия египетского образца, а в других преображалась в фигуру с прямыми лучами или в виде косого креста. Позднее в Ассирии (IX в. до н.э.) знак обрел сердцевину-кружок, а в иранском мире его часто стала заменять свастика, помещённая не только на лопатке, но и на бедре зверя. Очевидно, с Ираном связана и традиция изображения знака не только на фигурах хищников, но и на копытных животных. Вполне возможно, что келермесская секира демонстрирует смешение двух стилистических направлений: ассирийского (внешний вид знака, нанесение его на плечо) и иранского (помечены как хищники, так и травоядные) 1. [6]
^ 2. Трактовка гривы и мускулатуры льва.
Своеобразно выполнена грива у льва. Она изображена в виде пламевидных языков с круто загнутыми вершинами. Точно так же показана шерсть у львов и им подобных существ на ножнах из Келермеса и Литого
(37/38)
кургана (рис. 21, 22). В древневосточном искусстве данный стилистический приём часто использовался в урартской изобразительной традиции [Vanden Berghe, De Meyer, 1983, Afb. 27, cat. 99, 107, 135; Пиотровский, 1962, ил. XVI, XVIII, XXII, XXIII, XXV; Kellner, 1991, N7в]. Пожалуй, наиболее близким аналогом изображению на секире является рельеф из Адылджеваза, поскольку на нём завитки гривы льва тоже не выступают за общий контур шеи зверя (рис. 23).
Второй наиболее характерный признак келермесского хищника — это далёкая от реальности трактовка мускулов на бедре, которые изображаются посредством двух знаков — изогнутого двойного треугольника и листовидной фигуры. Параллелями здесь служат неоднократно упоминавшиеся ножны из Литого кургана, рельеф из Адылджеваза, бронзовая пластина VIII в. до н.э. из Ани-Пемза [Piotrovsky, 1969, ill. 84] и роговая матрица из Армавира [Тирацян, 1978, с. 112, рис. 7].
^ 3. Стилизация шерсти копытных.
Все копытные первой группы имеют общую характерную черту — орнаментальную полосу, имитирующую шерсть, которая обрамляет шею и проходит по животу и ягодице животного. Полоса состоит из двойной линии, ряда кружков и изогнутых штрихов. Ближайшая параллель этому элементу вновь фиксируется на ножнах из Келермеса и Литого кургана.
Достаточно близкой аналогией представляются и памятники изобразительного искусства Урарту, которые группируются по двум
вариантам. Первый — менее схематичный, когда в скоплениях штрихов и кружков без труда угадываются закручивающиеся пряди волос. Он запечатлён на рельефе из Адылджеваза. Второй вариант более схематичный — двойные линии утрачены, а штрихи спрямлены. Его можно видеть на бронзовых обойме IX-VIII вв. до н.э., щите VIII-VII вв. до н.э., поясе VII в. до н.э. и пластине VII — начала VI в. до н.э. [Vanden Berghe, De Meyer, 1983, cat. 75, 85, 102, 113, 115, 118, 121].
По отношению к двум вариантам урартской художественной традиции келермесская трактовка занимает промежуточное место. Несмотря на это, нельзя быть абсолютно уверенным, что мастера, украшавшие секиру, строго следовали приёмам урартского искусства. По обычаю художников Урарту, шерсть у копытных различных видов стилизовалась одинаково, на секире же быки имеют дополнительную орнаментальную полосу вдоль хребта.
^ 4. Изображения рогов травоядных животных.
Оригинально выполнены рога быков. У профильной фигуры представлены два круто изогнутых рога, которые почти образуют кольцо. Среди художественных памятников Ближнего Востока подобное воспроизведение встречается редко. Наиболее близкими являются изображения на сосуде из Сиалка, на бронзовых поясах X-IX вв. до н.э. с Кавказа и на оббивках ворот второй половины IX в. до н.э. из Балавата [Ghirshman, 1964, ill. 12, 411; Техов, 1977, рис. 99, 100; Wartke, 1993, Tab. 6]. Если в первых двух случаях общая трактовка тел зверей разительно отличается от келермесских фигур, то быки из Балавата выполнены в сходной манере. Впрочем, здесь также ясно видны два существенных отличия: рога не так круто загнуты и образуют не кольцо, а подобие полумесяца, хвост заканчивается кисточкой, а не кружком (рис. 25). Напротив, в искусстве древних кочевников, несмотря на малую популярность самого образа быка, легко можно отыскать памятники, на которых рога и хвосты животных показаны аналогичным образом (рис. 11а).
(38/39)
Итак, можно предположить, что изображения быков на келермесской секире, переданные в русле урартского и отчасти ассирийского канонов, были обогащены характерными элементами древнекочевнического искусства.
Среди козлов первой группы два имеют на рогах по две пары кружков-шишечек. Нечто подобное наблюдается на луристанской бронзовой скульптуре VIII-VII вв. до н.э. [Ghirshman, 1964, ill. 84]. Но представляется, что более близки памятники урартского искусства, например, бронзовая вотивная пластина VII в. до н.э. [Kellner, 1991a, N6].
^ 9. Основные особенности животных второй группы.
^ 1. Позы кабанов и лосей.
Своеобразно представлены на секире фигуры кабана, лосихи и лося (рис. 6 — №22, 29, 31). Животные словно стоят на краях копыт. Здесь поиск аналогий сразу должен быть ограничен памятниками искусства древних кочевников, так как именно там стоящие копытные часто изображались подобным образом. Эта схема запечатлена на оленных камнях [Appelgren-Kivalo, 1931, Abb. 332a, в; Грязнов, 1980, рис. 29, 2, 3, 13; Волков, 1981, табл. 31, 1; 34, 2; 64, 1; 69, 5; 92, 1, 2; 105; 116, 1, 2, 4, 5, 9] (рис. 27), петроглифах [Гапоненко, 1963, рис. 6; Шер, 1980, рис. 49; Дэвлет, 1982 (в библиографии нет), табл. 10а, б, в; 11; 14; 18-20; 24, 7] (рис. 11а), бронзовых и костяных предметах и керамике [Salmony, 1933, pl. V, 3; VI, 1, 2; Грязнов, 1947, рис. 4, 72; Бернштам, 1952, рис. 128, 2, 5; 139; Bunker, Chatwin, Farkas, 1970, N88-90; Грач, 1980, рис. 110; Доманский, 1984, ил. 17, 18, 21-23, 65; Археология СССР, 1989, табл. 39, 18; 115, 4, 9, 14; Савинов, 1994, с. 130-131, табл. XXIII, 1-10] (рис. 10а, 28). Основное количество таких изображений происходит из Южной Сибири, Центральной и Средней Азии, откуда данный мотив, по-видимому, и проник на Восток — в Ордос и на Запад — в Приуралье, на Кубань и Кавказ [Савинов, 1987, с. 113-114]. Исходя из рассмотренных аналогий, можно с большой долей уверенности предположить, что лоси и кабан на секире выполнены под непосредственным влиянием архаического скифо-сибирского искусства (что уже отмечалось в литературе [Савинов, 1994, с. 128, 162; Кисель, 1994, с. 33; 1997, с. 26-28]).
Особо следует отметить, что фигура лося (рис. 5 — №31) ближайшие подобия имеет в Киргизии (Жалтырак-Таш) (рис. 11в), Горном Алтае (Бураты) и Приобье (с. Штабка).
В оригинальной позе представлен один из кабанов (рис. 6 — №27). Тело животного напряжено, ноги упираются в воображаемую землю. У исследователей скифо-сибирского искусства такая схема обычно называется позой «внезапной остановки». Она, так же как и предыдущая, появилась в архаический период звериного стиля, но воспроизводилась, похоже, не столь часто, как первая. Аналогии встречаются на оленных камнях [Волков, 1981, табл. 4, 3; 18, 2; 19; 70, 3; 117, 5], петроглифах [Appelgren-Kivalo, 1931, Abb. 218; Гапоненко, 1963, рис. 4а, 8; Шер, 1980, рис. 33; Дэвлет, 1990, рис. 1, 2], бронзовых поясных пряжках [Доманский, 1984, ил. VII; VIII, 46-48], поделках из рога и кости [Hogarth, 1908, pl. XXV, 3а; Зуев, 1993, рис. 1; 5, 6], а также келермесском серебряном зеркале (кат. 46).
^ 2. Имитация шерсти животных.
У зверей второй группы шерсть показана в виде полосы штрихов, расположенных под углом к абрису туловища. Ближайшими параллелями подобной стилизации волосяного покрова являются изображения на ве-
(39/40)
щах из комплекса Зивие (рис. 14, 17, 19). Сходный стилистический элемент использован при выделении живота у пантер и кабана на серебряном зеркале из Келермеса, а также шеи у козлов на перекрестье акинака из Литого кургана.
Данный художественный приём зародился, очевидно, на Ближнем Востоке. Он использовался изобразительными школами Элама [Parrot, 1960, N357d], Малой Азии [Van Loon, 1990, pl. VIa, IX], Сирии [Bessert, 1951, Abb. 458, 459, 461, 464, 469] и Луристана [Ванден-Берге, 1992, N218, 270, 275]. Однако там штрихи, как правило, наносились разреженно и часто вертикально относительно линии туловища. Скорее всего, непосредственными прототипами такой трактовки шкуры зверей на секире послужили образцы урартского искусства [Vanden Berghe, De Meyer, 1983, cat. 98, 102, 103, Afb. 29; Kellner, 1991, N4, 7a, в, 14] (рис. 26).
^ 3. Стилизация рогов у оленей.
У трёх оленей на секире рога изображены с S-видными отростками, что типично для памятников скифского искусства.
На Ближнем Востоке аналогичная схема появляется только в период скифских походов в Переднюю Азию и впервые фиксируется в комплексе Зивие (рис. 14). Однако предполагать, вслед за М.Н. Погребовой и Д.С. Раевским, в оленях из Зивие «родоначальников» скифского образа вряд ли правомочно [Погребова, Раевский, 1992, с. 145]. Ведь для ближневосточного искусства такой стилистический приём является чуждым и связан непосредственно со скифским влиянием. В изобразительном же творчестве древних кочевников можно (пока гипотетически) наметить этапы зарождения этого элемента. Уже на аржанском этапе древнекочевнической культуры угадывается слабый намёк на извилистый контур роговых отростков оленей (рис. 27), что, как показал М.П. Грязнов, вполне логично в связи с использованием S-образно изогнутых линий в процессе создания этих и подобных им фигур [Грязнов, 1984, с. 78]. Следующим этапом развития мотива являются олени из Чиликты и Гумарово: S-видные отростки у них уже вполне отчётливы, но концы их ещё недостаточно загнуты (рис. 7, 8). Именно на данной стадии развития образа скифского оленя и произошло знакомство с ним ближневосточных мастеров, которые внесли некоторые дополнения в первоначальную трактовку. Использовав, повидимому, привычный им элемент стилизованных побегов урартского «древа жизни» [Артамонов, 1961, с. 44 (в библиографии нет, см.: 1962, с. 34 сл.)], торевты перенесли его на скифских оленей. Комплекс Зивие и фиксирует этот момент. А изображения на выступах ножен из Келермеса и Литого кургана, бляха из Костромского кургана (кат. 14) демонстрируют окончательное сложение скифского образа 1. [7]
^ 4. Продольное ребро на шее у копытных.
Травоядные семейства оленьих на секире имеют на шее продольное ребро, делящее её на две плоскости. Аналогичный стилистический элемент несут на себе животные на поясе и бляшках из Зивие (рис. 10а, б) и на ряде предметов с Северного Кавказа и из Причерноморья [Piotrovsky, Galanina, Grach, 1986, pl. 16, 17, 23, 52 и т.д.].
По мнению Е.В. Переводчиковой, этот признак имел смысловое значение. С его помощью на секире выделялся наиболее важный зооморф-
(40/41)
ный образ — олень [Переводчикова, 1979, с. 153-155]. В свою очередь, Д.С. Раевский увидел в «рёбрах» художественно-технический приём, который намечал «каркас» изображения, облегчая его тиражирование [Раевский, 1985, с. 127-132]. Другие исследователи связывают появление граней на памятниках скифского искусства с техникой резьбы по дереву, кости, рогу или камню [Артамонов, 1961, с. 35-37 (в библиографии нет, см.: 1962, с. 31); Членова, 1971, с. 216-217; Минасян, 1988, с. 56-57].
Действительно, подавляющее большинство произведений скифо-сибирского звериного стиля несёт на себе отражение техники резьбы. Даже восковые модели для литья древние кочевники предпочитали не лепить, а резать ножом [Минасян, 1988, с. 56; 1989, с. 85]. Несмотря на это, мастер, завершая отделку резного предмета, легко мог избежать ломаных плоскостей и острых граней. Например, на архаических произведениях скифо-сибирского искусства продольное ребро на шее копытных часто отсутствует [Грязнов, 1980, рис. 25, 26]. У оленей из Гумарово (рис. 7) и Чиликты (рис. 8) оно едва просматривается. Наоборот, для западных областей кочевнического мира этот элемент был наиболее характерен [Членова, 1971, с. 217]. Особенно чётко выделяются грани на памятниках, выполненных нескифскими мастерами и являющихся подражанием изображениям звериного стиля (олени и козлы на поясе и бляшках из Зивие, олени на ножнах из Келермеса и Литого кургана, костромской олень, келермесская пантера [Минасян, 1988, с. 49, 56; 1991, с. 381]). По-видимому, ближневосточные мастера при копировании образов скифо-сибирского искусства стремились к имитации даже технологических следов, оставшихся на оригинальном произведении, тем самым превращая технологический признак в стилистический элемент. Именно это и наблюдается на секире, где мастер (мастера) нанёс ребро на шею тех животных, которые часто изображались в зверином стиле и не были характерны для художественных традиций Ближнего Востока.
^ 5. Имитация шерсти в виде чешуи.
Тела двух зверей покрыты чешуйчатым орнаментом (рис. 6 — №20, 24). Звериный стиль периода архаики не был знаком с подобным изобразительным приёмом. Зато на ближневосточных памятниках можно найти достаточно близкие изображения. Разумеется, чаще всего чешуйчатый орнамент применялся для проработки фигур рыб и пресмыкающихся. Но нередко он использовался при стилизации звериной шкуры [Mallowan, 1966, N326, 328; Bunker, Chatwin, Farkas, 1970, N33; Barnett, 1975, pl. 7; Kellner, 1991, fig. 3] (рис. 21, 26), а иногда — оперения птиц [Das Vorderasiatische Museum, 1989, N157] (рис. 17). В основном к подобной орнаментации изображений зверей и птиц прибегали мастера Ассирии, Урарту, Сирии и Ирана.
^ 6. Изображения лошадей.
Во вторую группу вошли две взнузданные лежащие лошади. Образ лошади был очень популярен на Ближнем Востоке, но изображений лежащих лошадей крайне мало. Имеющиеся немногие памятники из Луристана вряд ли могут считаться точной аналогией, поскольку у представленных на них лошадей ноги не заходят одна на другую, а шея вертикально поднята [Ванден-Берге, 1992, кат. 226]. Наиболее близки животным с секиры фигуры на золотых накладках уздечного набора, тоже происходящие из Келермеса (рис. 29). Они выполнены в технике басмы, что должно указывать на руку скифского мастера.
В искусстве древних кочевников образ лошади занимал значительное место. Известен ряд изображений, достаточно близких келермесским, где
(41/42)
эти копытные лежат с опущенной головой, поднятыми вверх ушами и опущенным хвостом, плавно огибающим ягодицу [Кубарев, 1979, табл. IX, 2; Волков, 1981, табл. 3, 1; 34, 1; Савинов, 1994, табл. VIII, 12, 13; Чугунов, Парцингер, Наглер, 2002, рис. 15-16] (рис. 30, 31).
Однако для детальной проработки фигур на секире были явно использованы ближневосточные художественные приёмы. Головы лошадей напоминают скульптурный бронзовый наконечник из Кармир-Блура [Piotrovsky, 1969, ill. 107]. Хвосты животных на секире, украшенные до середины длины поперечной штриховкой, а ниже — продольными линиями, похожи на перетянутые ремнями хвосты верховых и колесничных лошадей ближневосточных культур [Barnett, 1975, pl. 32, 38, 73, 115, 123, 127, 128, 153-155, 166, 174; Kellner, 1991, N6, 9, 10]. Укороченные гривы с рифлением у «келермесских» копытных аналогичны гривам лошадей на ассирийских, сирийских и иранских памятниках [Ghirshman, 1964, ill. 35, 77, 168, 345, 347; Mallowan, 1966, N462; Barnett, 1975, pl. 40-44, 123, 124]. Знак «перевёрнутой ёлочки», помещённый в выемке бедра одного животного на секире, находит близкое подобие на мраморном фризе из Топрах-Кале, где сходным образом орнаментирован половой орган быка [Пиотровский, 1962, рис. 63].
Лошади на секире взнузданы. Оголовья выполнены схематично и недостаточно подробно, однако можно разглядеть щёчный, налобный, суголовный и подбородный ремни, поводья, заброшенные на шею животного, а также три круглые пронизи. Рядом со ртом показано переносье или псалий, возможно трёхдырчатый, судя по тому, что на одном изображении от пронизи на щёчном ремне отходят три штриха, которые можно принять за тонкие ремешки, крепящие псалий 1. [8] Точно реконструировать узду затруднительно. Предположительно она могла походить на некоторые ассирийские оголовья IX в. до н.э., сирийские VIII в. до н.э. или урартские VIII-VII вв. до н.э., если с них удалить многочисленные украшения [Mallowan, 1966, N462; Barnett, 1975, pl. 32, 37, 38; Kellner, 1991, N10]. Правда, нельзя исключить возможность того, что была скопирована кочевническая узда, подобная представленной на бронзовом ноже из Аньяна или роговом наконечнике из Аржана [Bunker, Chatwin, Farkas, 1970, N55; Грязнов, 1980, с. 15, 1-3].
Таким образом, фигуры лошадей на секире, по-видимому, выполнены в ключе скифо-сибирского звериного стиля, но подверглись сильной переработке с привнесением стилистических элементов искусства Урарту, Ирана, а возможно — Сирии и Ассирии.
^ 7. Изображение фантастического медведя.
Образ медведя встречается на памятниках Ближнего Востока [Фармаковский, 1914, табл. XXVII, 3; Флиттнер, 1958, рис. на с. 75; Champdor, 1964, Abb. 83; Müller-Karpe, 1980, Т. 13ФЗ; Бернхард, Т. 13А3; 1982, рис. на с. 28, 43], Кавказа [Доманский, 1984, ил. 52, 97, 98], скифо-сибирского мира [Бернштам, 1952, рис. на с. 128, 2, 4, 6; 139; Гапоненко, 1963, рис. 4б, в; Moorey, Bunker, Porada, Markoe, 1981, N934; Троицкая, Бородовский, 1994, рис. 17, 9] (рис. 10б, в; 11а).
В отличие от ближневосточных изображений, где медведи представлены идущими или стоящими на задних лапах, большинство скифо-сибир-
(42/43)
ских фигур переданы в той же позе, что и зверь на секире. Кроме того, у «кочевнических» животных также показаны выемки на бёдрах и лопатках. Что касается стоп зверя, выполненных в виде птичьей головы, то, по мнению А.Р. Канторовича, здесь отразились художественные принципы древних кочевников, согласно которым дополнение зооморфного образа частями тел других животных должно было подчеркнуть его семантическое доминирование [Канторович, 2002, с. 23]. Однако до сих пор не удаётся выявить кочевнические памятники искусства, предшествующие или синхронные сооружению Келермесских курганов (исключая золотую пантеру из Зивие, выполненную ближневосточным мастером, сильно исказившим исходный образ [Ghirshman, 1964, fig. 158]), где бы этот принцип был так отчётливо отражен. Широко известные «загадочные картинки» архаического звериного стиля строились по другому принципу — вписыванию одного животного в контуры тела другого. Правда, логика развития скифского искусства, как можно предположить, должна была привести к возникновению вычурных «зооморфных превращений», но толчком всё же послужило знакомство скифов с изобразительным наследием Ближнего Востока. Поэтому в появлении на секире медведя с птичьими головами, очевидно, следует видеть влияние ближневосточных художественных традиций.
^ 8. Изображение грифонослона.
Среди всех зверей выделяется чудовище, образ которого совместил в себе черты нескольких животных (рис. 6 — №23; рис. 32). Массивное, грузное тело, покоящееся на столбообразных ногах, голова, снабжённая хоботом и бивнем и удерживаемая едва заметной шеей, а также короткий хвост с кисточкой заставляют думать, что одним из них послужил слон. Контур головы монстра имеет некоторое сходство с профилем хищной птицы, что, как указывал А.Э. Брэм, является одним из отличительных признаков африканского слона [Брэм, 1893, с. 10]. Ноги фантастического существа завершаются мощными птичьими когтями, а туловище покрыто такой же косой штриховкой, как и у кабанов на секире. Кроме того, у чудовища показан гребень из перьев, идущий вдоль хребта, и округлое крыло, перекрытое лопаткой. Эта фигура не имеет никаких параллелей со скифским искусством и находит аналогии в памятниках Ближнего Востока. В частности, абрис тела животного подобен изображению слона на ассирийском рельефе IX в. до н.э. [Barnett, 1975, pl. 46] (рис. 33). Мелкие же детали — когтистые ноги, хвост с кисточкой и крыло — трактованы в русле урартского искусства VIII-VII вв. до н.э. [Kellner, 1991, N17, fig. 3; N6b; Kellner, Merhav, Kohlmeyer, Zahlhaas, 1991, N5, 6]. Но сам образ слона, нехарактерная для урартского фантастического существа поза (голова не поднята, а опущена, крыло вписано в контур туловища и перекрыто лопаткой, а не выступает над спиной) никак не вяжется с художественной традицией Урарту.
^ 9. Изображение человека.
Одним из самых интересных персонажей является изображение мужчины (рис. 3). Поза, в которой он запечатлён (стоя с поднятой вверх правой рукой и вытянутой вперёд левой), канонична для ближневосточного искусства и передаёт момент поклонения божеству или святыне. Наиболее близким подобием служат фигуры гениев на устье ножен из Литого кургана (рис. 35). В сходных позах изображены люди и на урартских предметах [Пиотровский, 1962, рис. 42, 43; Vanden Berghe, De Meyer, 1983, cat. 30, 100; Kellner, 1991, N12, 13].
(43/44)
Необычно одеяние келермесского персонажа. Некогда В.А. Ильинская предположила, что его костюм состоит из длинного кафтана, островерхой тиары или башлыка и мягких сапог [Ильинская, 1982, с. 42; Ильинская, Тереножкин, 1983, с. 74]. Но платье, спускающееся ниже колен, вряд ли может быть кафтаном, поскольку самые длинные из них доходили только до середины бедра. К тому же без пояса кафтан должен был бы распахиваться. Скорее всего, человек одет в длинную рубаху с короткими рукавами. Штрихи на запястье обозначают браслеты или, что менее вероятно, обрез длинных рукавов нижней одежды. Рубаха орнаментирована «ёлочным» узором, как на урартских изображениях VIII-VII вв. до н.э. (рис. 26). Рубахи являлись главным элементом костюма хурритов, хеттов, отчасти сирийцев, а также эламитов, урартов и иранцев [Горелик, 1985, с. 43; Богословская, 1995, с. 93, 97, 99, 110-111, 122].
На ногах мужчины надеты мягкие сапоги с обвязкой, но не хеттского, ассирийского или урартского типа, а скифского [Ильинская, 1982, с. 43] или иранского [Ghirshman, 1964, ill. 92, 93].
Загадочен головной убор с лопастью, спускающейся на спину. Некоторое сходство с ним имеют остроконечные шлемы ассирийцев и урартов и конусовидные шапки хеттов. Но мягкий, чуть изогнутый контур келермесского изображения заставляет отказаться от такого сопоставления. Не исключено, что здесь запечатлён плохо скопированный скифский башлык.
Следовательно, в костюме человека, представленного на обушке секиры, наблюдается смешение урартских и скифских элементов.
Подводя итог стилистическому анализу орнаментальных деталей секиры, отметим характерное размещение фигур животных, расположенных друг над другом. Такой композиционный приём особенно часто применялся мастерами Кавказа [Доманский, 1984, ил. VI-VIII, 46, 59, 60], а также древними кочевниками Южной Сибири и Центральной Азии [Хлобыстина, 1974, рис. 3-7; Кубарев, 1979, рис. 26, табл. VI; Волков, 1981, табл. 34, 2; 69, 5; 92; 94; Савинов, 1994, табл. V, 1, 2, 4].
Сходство в этом плане секиры с памятниками древних кочевников уже отмечал Д.Г. Савинов [Савинов, 1994, с. 130]. Но следует подчеркнуть, что и урартское искусство VIII в. до н.э. знало подобный приём размещения фигур [Vanden Berghe, De Meyer, 1983, cat. 107].
В целом секира из Келермеса демонстрирует смешение черт художественных традиций Урарту, Ирана, Ассирии, Северной Сирии, Кавказа и скифо-сибирского мира (рис. 36). Большинство аналогий относится к VIII-VII вв. до н.э. Ряд стилистических совпадений с рельефом из Адылджеваза, датируемого 680-645 гг. до н.э. (манера стилизации ушей, мускулатуры и волосяного покрова животных, растительные мотивы), позволяет предположить, что секира была сделана в первую-вторую треть VII в. до н.э. Вероятно, над ней трудились как минимум два мастера (один орнаментировал топор, второй — рукоятку). Они, судя по доминирующим стилистическим приёмам урартского искусства, были очень хорошо с ним знакомы, однако урартами не являлись, иначе на секире нашли бы место такие характерные орнаментальные мотивы, как ромбовидный знак, специфические розетки и пальметки, сочетания плодов «древа жизни» и некоторые другие. Если обратить внимание на многочисленные элементы иранской художественной традиции и кавказский тип топора, то можно заключить, что мастера были выходцами из Северо-Западного Ирана или с Кавказа.
^ Бронзовые с золотым покрытием застёжки от горитов, колчанов или налучий (кат. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) представляют собой стержни (длина 6,5-8,6 см), круглые в сечении (диаметр 0,8-1,2 см), орнаментированные, как
(44/45)
правило, выпуклыми валиками. В центре располагается углублённый поясок для ременной (?) петли. Большинство застёжек имеют скульптурное оформление окончаний (кат. 7-10, 12). В трёх случаях это схематично выполненные головы львов, а в двух — головы баранов и лошадиные копыта. Остальные же завершаются выпуклыми кнопками (кат. 6, 11).
Предметы можно дифференцировать на основе орнаментального рифления. Четыре застёжки почти полностью покрыты поперечными валиками (кат. 6, 9, 11, 12), на трёх либо имеется несколько валиков, либо они вообще отсутствуют. Две рифлёные застёжки завершаются львиной головой, а две — кнопкой. Несмотря на различные окончания, вещи представляют собой единую серию, что подтверждается наличием аналогичной рубчатой декорировки части валиков на одной застёжке с львиной головой (кат. 12) и одной — с кнопкой (кат. 11). Вероятно, эти четыре предмета демонстрируют вполне определённый сложившийся тип, выработанный в одном центре. Данный тип характеризуется рифлением плоскости изделия и фигурным оформлением окончаний 1. [9]
Все рассматриваемые вещи имеют близкое родство со скифо-сибирскими костяными, каменными и металлическими палочковидными застёжками с прямыми, округлыми или зауживающимися концами, которые, в свою очередь, восходят к трёхжелобчатым застёжкам предшествующих культур. Именно среди последних впервые фиксируется применение золотой обтяжки [Грязнов, 1980, с. 25, рис. 12, 4]. Однако прямых аналогий в древнекочевнической среде изучаемые предметы не находят. Основное отличие — это оформление окончаний. Если появление кнопок можно представить как видоизменение грибовидных окончаний кочевнических образцов, то присутствие головы льва и барана требует объяснения. Сама традиция украшения различных вещей «антиподально» расположенными головами животных фиксируется в Южной Сибири с эпохи неолита, а позднее — в Центральной и Средней Азии [Савинов, 1995, с. 64, рис. 219, 221 (в библиографии нет; см.: 1995, рис. 2: 19, 21 и с. 64)]. Но скульптурные изображения на застёжках не обнаруживают близких аналогий в древнекочевническом искусстве. Известные костяные псалии, украшенные головой кошачьих хищников, по всей видимости, появились уже после скифских переднеазиатских походов. Изображения же бараньей головы, распространённые у скифов до и в период ближневосточных кампаний, по иконографии не имеют ничего общего с представленными на застёжках. Вероятно, на художественное оформление данных вещей повлияли традиции Ближнего Востока. Примером для подобной орнаментации могли послужить металлические браслеты, обычно украшавшиеся головами льва и барана. Эти предметы датируются X-VII вв. до н.э. и происходят из Амлаша, Марлика, Хамадана (?) [Maxwell-Hyslop, 1971, pl. 149-151, 227, 228, 230], Кармир-Блура [Пиотровский, 1970, кат. 79], Зивие [Ghirshman, 1964, ill. 148, 150; Maxwell-Hyslop, 1971, pl. 171]. На многих ассирийских рельефах IX-VII вв. до н.э. показаны аналогичные браслеты [Barnett, 1975, pl. 4, 5, 9, 12, 14, 32, 34, 118]. Некоторые из этих вещей, изготовленные ассирийскими и урартскими мастерами, имеют рифление [Пиотровский, 1944, рис. 71; Maxwell-Hyslop, 1971, pl. 149b, 150, 151, 171] 2. [10] Но сочетание своеобразной трактовки львиных
(45/46)
морд с манерой исполнения рифления (чередование широких и узких валиков) встречается, по-видимому, только на урартских браслетах. Вероятно, создание рифленого типа застёжки — результат творчества именно урартских торевтов.
Следует подчеркнуть тщательность изготовления всех рассматриваемых предметов. Исключение составляет застёжка из с. Журовка (кат. 10). Она отличается от остальных застёжек асимметрией форм (длины плеч 2,9 и 3,1 см), более толстым золотым покрытием, отсутствием поперечных валиков, грубостью и схематичностью изображения морд хищников (головы львов угадываются с трудом, не показаны уши). Напрашивается вывод, что данный предмет является подражанием вещам, аналогичным застёжкам из Литого кургана (кат. 9) и с Темир-Горы (кат. 12). Очевидно, застёжка из с. Журовка была изготовлена в кочевнической среде местным (скифским?) мастером.
Предметы, украшенные головами баранов и лошадиными копытами, представляют собой «вариации на тему» рифлёных застёжек. Торевты, создавшие их, заимствовали только идею скульптурных окончаний, в остальном же оформлении они руководствовались собственными традициями.
Застёжка с лошадиными копытами ныне признана изделием «чисто скифским во всех отношениях» [Галанина, 1991, с. 24; 1997, с. 112]. Действительно, представленная стилизация копыт имеет много общего с костяными наконечниками псалиев из Келермеса [Галанина, 1983, с. 46, табл. 8, 29, 32; 1997, табл. 21, 23]. Однако, как уже указывалось, скифские образцы данной категории вещей обычно не имеют ни рифления, ни фигурных окончаний, следовательно, не исключено, что и эта вещь была изготовлена нескифским мастером.
Экземпляр с головами баранов — шедевр среди застёжек. У него тщательно и аккуратно проработаны окончания. Плоскость предмета декорирована рубчатыми валиками и вставками (прямоугольные — янтарь, круглые — паста?). Возможно, в глазах баранов тоже были вставки.
Головы баранов находят ближайшую аналогию, как указала Л.К. Галанина, на «украшениях трона» (кат. 30-31) [Галанина, 1991, с. 24; 1997, с. 114]. Совпадение в деталях практически полное (контур головы, трактовка губ и складок на морде, стилизация глаз и ушей, расположение окончаний рогов непосредственно под глазами, рубчатые полосы, орнаментирующие рога и имитирующие шерсть на лбу, крупные зигзаги на нижней челюсти, обрамление шеи рифленым «ошейником»). Исследовательница пришла к заключению, что застёжка выполнена или ближневосточным торевтом, или скифским мастером, который скопировал бараньи головы с «украшений трона» [Галанина, 1991, с. 24; 1997, с. 114]. Более убедительным кажется первое предположение, так как близкие подобия объёмным головкам на застёжке встречаются и на других памятниках Ближнего Востока: золотой браслет из Зивие [Ghirshman, 1964, ill. 148], керамический ритон (700-680 до н.э.) из Нимруда (Mallowan, 1966, N124]. У всех одинаково выполнены уши и глаза (на ритоне дополнительно даны брови). Идентичен изгиб рогов (правда, на браслете рога заканчиваются не под глазами, а у уголков рта, на ритоне же окончания рогов закручиваются в два оборота). Аналогичным рифлением выполнена орнаментация рогов (хотя на ритоне и браслете отсутствуют рубчики). Во всех случаях штриховкой трактована шерсть на лбу (на браслете показаны даже рубча-
(46/47)
тые полосы). Каждая протома имеет «ошейник» (но на ритоне он украшен не рифлением, а розетками). Вряд ли скифский ремесленник сумел бы с такой точностью и мастерством скопировать характерные черты ближневосточного изобразительного канона.
Вопрос датировки рассмотренных предметов очень сложен. Л.К. Галанина, опираясь на тот факт, что экземпляр с Темир-Горы был найден вместе с родосско-ионийским сосудом третьей четверти VII в. до н.э., предложила считать эту дату нижним хронологическим рубежом для данной категории вещей [Галанина, 1991, с. 24]. Ю.Б. Полидович отнёс время изготовления застёжки к VII-VI вв. до н.э. [Полидович, 1994, с. 190]. Принимая во внимание датировку упоминавшегося ассирийского ритона (700-680 до н.э.), нижней временной границей застёжки вполне можно считать первую половину VII в. до н.э.
Необходимо отметить тот факт, что во всех раннескифских курганах, содержавших ближневосточные вещи, застёжки являются одной из самых распространённых категорий. При этом курганы резко различаются размерами, количеством конских захоронений, богатством инвентаря. В ряде комплексов застёжки представляли единственный импортный предмет. Не исключено, что богато украшенные застёжки имели не только практическое и декоративное значение, но и служили эмблемой, маркирующей представителей высшего воинского сословия, отмечая принадлежность владельца к «царскому» роду или к узкому кругу соратников «царя».
С предметами вооружения связаны и две крупные золотые бляхи в виде фигур животных, украшавшие, как считалось ранее, панцири или щиты, а по сегодняшним представлениям — гориты, налучья или колчаны [Ольховский, 1989, с. 103; Алексеев, 1996, с. 133-134]. Бляха из Келермеса (кат. 13) представляет собой профиль кошачьего хищника, стоящего с низко опущенной головой. Шея животного чрезмерно удлинена. Пасть оскалена. Хвост и стопы зверя выполнены в виде маленьких кошачьих хищников, свернувшихся в кольцо. Чисто профильное изображение нарушено тем, что у животных показаны четыре лапы и два уха. Глаз, ноздря и одно ухо были заполнены вставками (ныне сохранились сложносоставная вставка в глазу — гематит внутри известняка (?) и кусочки содового стекла в ухе) 1. [11] На тыльной стороне бляхи имеются две петли-дужки.
Бляха из ст. Костромской (кат. 14) изображает лежащего оленя. Передние ноги животного покоятся на задних. Шея и голова смотрят вперёд. Громадный рог с S-видными отростками проходит вдоль спины зверя и соединяется с крупом. Изображение чисто профильное. Некогда в глазу и ухе располагались вставки. К тыльной стороне бляхи припаяны две овальные петли.
Как было установлено Р.С. Минасяном, оба предмета изготовлены в технике выколотки с дополнительной отделкой посредством чекана [Минасян, 1988, с. 49, 56; 1990, с. 73]. На бляхе из Келермеса чеканкой выполнены маленькие свернувшиеся пантеры.
Келермесская пантера и костромской олень считаются классическими памятниками звериного стиля. И, несмотря на неоднократно отмеченное воздействие древневосточного влияния, в частности на примере пантеры из Келермеса (нарушение профильности изображения, техника перегородчатой инкрустации, чеканка) [Ильинская, 1971, с. 70; Галанина, 1991, с. 23-24; 1997, с. 118; Погребова, Раевский, 1992, с. 100; Переводчикова, 1994, с. 98-99], данные вещи продолжают считаться образцами творчест-
(47/48)
ва скифских мастеров. В качестве наиболее яркого примера можно привести мнение Г.А. Фёдорова-Давыдова, назвавшего келермесскую пантеру «одним из лучших произведений степного искусства кочевников Евразии» [Фёдоров-Давыдов, 1976, с. 15].
Несомненно, оба изображения выполнены в традициях звериного стиля. На это указывают каноничные позы, проработка тел крупными плоскостями с резкими гранями, стилизация рогов оленя. Однако, как уже было показано в разделе, посвящённом стилистическому анализу келермесской секиры, многие из перечисленных признаков не могут однозначно восприниматься в качестве характерных особенностей древнекочевнического искусства. Фигуры животных, составленные из плоскостей, сходящихся под углом, — отличительная черта в основном западных памятников звериного стиля. Многие из них выполнены нескифскими мастерами, которые, стремясь приблизиться к оригинальным произведениям древних кочевников, утрированно передавали следы резьбы, превращая в результате технологический элемент в стилистический. Чёткие S-видные роговые отростки на изображениях оленей, возможно, появляются не раньше времени скифских переднеазиатских походов. Как уже указывалось, такая трактовка оленьих рогов могла сформироваться в процессе знакомства ближневосточных мастеров с древнекочевническим мотивом пламевидных роговых отростков и переработки его по схеме стилизованных побегов урартского «древа жизни». Позы животных на бляхах действительно соответствуют традициям звериного стиля. Но если изображение костромского оленя выдержано в точности до мелочей, то поза келермесской пантеры — отступление от правил. Ни одно из известных архаических скифо-сибирских изображений кошачьих хищников не имеет четырёх лап. Обычно это строго профильные фигуры, свёрнутые в кольцо, лежащие или стоящие с опущенной головой («припавшие на лапы»). Именно в положении стоя или лёжа представлены все «скифские» пантеры, выполненные ближневосточными мастерами (зеркало из Келермеса (кат. 46), предметы из Зивие [Погребова, Раевский, 1992, рис. 1]).
Келермесская пантера запечатлена как бы в момент внезапной остановки, то есть в позе, в которой, как правило, изображались не кошачьи хищники, а кабаны. Наиболее показательным примером служат петроглифы Жалтырак-Таша, где в многофигурной композиции среди профильных изображений животных только у кабана показаны четыре ноги [Гапоненко, 1963, с. 105, рис. 4]. В похожей позе представлены также кабаны на зеркале и секире из Келермеса (кат. 5, 46).
В связи с келермесской пантерой и костромским оленем следует рассмотреть три костяные бляшки в виде фигуры кабана. Две из них — парные — ныне хранятся в Метрополитен-музее, а происходят, скорее всего, с Ближнего Востока. С лицевой стороны они покрыты золотой фольгой, с тыльной — серебряной. На бляшках вырезана профильная фигура лежащего кабана с четырьмя ногами [Bunker, Chatwin, Farkas 1970, N35a, b]. Третий экземпляр был найден в Эфесе. На этой бляшке кабан в позе «внезапной остановки», но строго профильно [Hogarth, 1908, pl. XXV, 3а; Иванчик, 2001, рис. 40, 4]. Материал и техника изготовления бляшек, а также облик фигур, проработанных крупными плоскостями с резкими гранями, казалось бы, указывают на руку скифского мастера, однако ряд наблюдений заставляет усомниться в этом. Во-первых, у кабанов хвосты имеют кольцевидные окончания, что не характерно для скифо-сибирского канона. Во-вторых, глаза зверей стилизованы в виде миндалин, а не окружностей. В-третьих, уши вместо овалов или подтреугольников пока-
(48/49)
заны как каплевидные фигуры с остроконечной вершиной внизу 1. [12] Видимо, костяные бляшки были изготовлены нескифскими мастерами 2. [13]
Между тем, бляшки-кабаны сопоставимы с животными на золотых бляхах. Кроме одинаковой передачи тел плоскостями, они имеют сходные выемки на бёдрах. К тому же у келермесской пантеры, как и у кабанов, одинаковая форма ушей, с эфесским зверем у неё совпадает поза, а с «метрополитенским» — показ всех четырех конечностей. У костромского оленя и кабанов идентично трактованы копыта. Бляшки можно рассматривать в качестве связующего звена между пантерой из Келермеса и оленем из ст. Костромской. Причём в этом ряду келермесская пантера менее точно передает традиции звериного стиля 3. [14] Хотя все пять вещей имеют много общего, трудно установить, из одного ли центра они вышли. И если кабаны по манере исполнения похожи друг на друга, то у костромского оленя и келермесской пантеры немало различий. Большинство отличительных признаков — это результат разного профессионального уровня создателей блях. У мастера, изготовившего оленя, профессиональные качества были значительно выше, о чём говорит чёткость граней плоскостей, приблизительно одинаковая толщина всех частей бляхи, отсутствие следов производственного брака (у пантеры имеются полученные в процессе изготовления разрывы, которые были запаяны или заплатаны). Петли на тыльной стороне бляхи из ст. Костромской сделаны из широкой золотой полосы, свёрнутой наподобие овала. Это выглядит более изящно и не так трудоёмко по исполнению, как согнутые в дужки золотые стержни с расплющенными концами на келермесской бляхе. Однако всё перечисленное касается опять-таки только профессионализма торевтов. Основным же различием являются способы инкрустации вещей. В этом мастера продемонстрировали приверженность разным традициям. Создатель келермесской пантеры применил глухую закрепку, вероятно в сочетании с клеевой, для размещения вставки в глазу и технику типа клаузонне [клуазонне, фр. cloisonné] («перегородчатая инкрустация») для декорировки уха. Именно последний приём очень часто применялся ювелирами древнего Востока [Литвинский, Пичикян, 1992, с. 104-107]. Способ же, наблюдаемый на костромском олене, — закрепка в отдельном касте, располагающемся в гнезде основы, — нетипичен для Ближнего Востока и может указывать на сравнительно слабое владение торевтом техникой инкрустации 4. [15] Это не вяжется с мастерством, аккуратностью и талантом создателя предмета. Не исключено, что первоначально инкрустация костромского оленя была изготовлена иначе, например, глухой закрепкой в углублениях самой бляхи. Впоследствии вставки были утрачены, и другой мастер сделал накладной каст из
(49/50)
фольги. Если данное предположение подтвердится, то можно будет говорить о вероятности изготовления обеих блях в одной мастерской.
Келермесская пантера вполне сопоставима со скифоидными изображениями из Зивие, на которых видны многочисленные отступления от традиционных образов звериного стиля и ощущается влияние искусства Ирана, Ассирии и Урарту. Костромской же олень более строго повторяет скифский прототип и почти не имеет лишних элементов, что не позволяет связать его с ирано-ассиро-урартским кругом. Скорее данный памятник относится к иному культурному миру, который испытал сильное воздействие многих изобразительных школ и привык к заимствованиям и копированию стилистических приёмов различных художественных направлений. Пожалуй, таким регионом могли оказаться государства Малой Азии.
^ Украшения представлены диадемами, которые выполнены различными мастерами и на разном профессиональном уровне, фрагментом золотой пластины и серьгами.
Шедевром древнего ювелирного искусства является диадема из Литого кургана (кат. 18). Она состоит из трёх золотых плетёных шнуров, украшенных розетками и звездообразными бляшками. Концы шнуров диадемы вставлены в замки, представляющие собой 4 полых цилиндра, соединённых попарно. От цилиндров отходят цепочки с золотыми полумесяцами и шариками (рис. 37). По-видимому, некогда диадема имела иной облик. Как уже отмечалось исследователями [Придик, 1911, с. 15; Бессонова, 1990, с. 32], первоначально шнуров было четыре, на что указывает количество трубочек, с помощью которых розетки и «звезды» удерживаются на диадеме. Отдельный набор трубочек состоит из четырёх штук, при этом каждая четвёртая сплющена (рис. 38).
Удаление одного шнура, наверное, связано с особым значением числа «3» в мифологических представлениях древних кочевников [Бессонова, 1990, с. 32].
Замки диадемы имеют прямоугольный выступ, вертикально отходящий от места стыка цилиндров. Выступ состоит из двух спаянных пластинок, каждая из которых, в свою очередь, припаяна к боковой части цилиндра. Присутствие его труднообъяснимо. Е.М. Придик предполагал, что замок дошёл до нашего времени в сломанном состоянии, некогда же он представлял собой «что-нибудь вроде шарнира» [Придик, 1911, с. 15]. Можно предложить и другое толкование. Судя по длине шнуров (ок. 63 см), диадема служила украшением головного убора. Выступы могли вставляться в какие-то углубления-прорези в этом уборе, причём замки тогда располагались бы вертикально, не давая запутываться подвескам на цепочках. Что касается самих подвесок — шариков и полумесяцев, то нынешнее их размещение (к одному замку крепится 1 полумесяц, к другому — 2, к двум полумесяцам — 3 шарика, к одному — 2) — результат ошибки реставраторов, что отмечал ещё Е.М. Придик. Он предполагал, что полумесяцев было 4 и к каждой петельке на их концах было подвешено по 2 шарика, то есть в общей сумме — 16 [Придик, 1911, с. 15]. Можно предложить несколько иную реконструкцию. 4 шнура удерживались штырьками в двух цилиндрах. От колец, расположенных на конце каждого штырька, отходило по цепочке с шариком. К кольцам, находящимся на торцах цилиндров, подвешивалось по полумесяцу. А на концах полумесяцев висело по шарику. Таким образом, на каждом замке на цепочках располагалось по 2 полумесяца и по 6 шариков (рис. 39), то есть всего было 4 полумесяца и 12 шариков.
Важнейшие вопросы, встающие при изучении диадемы, — это время и место её изготовления. Некогда Н.А. Онайко высказала предположение,
(50/51)
что предмет является изделием «смешанного греко-восточного стиля», и подчеркнула близость его к памятникам торевтики как архаической Греции, так и Ближнего Востока [Онайко, 1966, с. 31]. Действительно, многие элементы диадемы находят близкие параллели в античном и ближневосточном мире.
Составляющие диадему золотые шнуры сплетены из четырёх цепочек. Подобная техника плетения появляется на Ближнем Востоке в VIII в. до н.э., а в греческом мире — в VII в. до н.э. [Уильямс, Огден, 1995, с. 26]. Греческие украшения с о. Родос (630-620 до н.э.), где использованы шнуры, можно сопоставить с диадемой по обилию зерни и манере оконтуривать зернью лепестки и сердцевины розеток [Mer Egée. Grèce des Iles, 1979, cat. 89, 90]. Однако непременное включение в орнаментацию этих изделий антропо- и зооморфных мотивов не даёт возможности предполагать, что диадема была изготовлена в одном центре вместе с ними. Ближневосточные же предметы с плетёными шнурами служат более близкими аналогиями. Особое внимание привлекают вещи, на которых шнуры сочетаются с полыми цилиндрами, подобными замкам и крепежу розеток и «звёзд» на диадеме, например, золотое нагрудное украшение IX в. до н.э. из Нимруда [Jahrbuch, 1999, Abb. 13] и ожерелье VIII-VII вв. до н.э. из Зивие [Maxwell-Hyslop, 1971, pl. 166]. Сами же цилиндры и трубочки, украшенные зернью, известны на Ближнем Востоке ещё со II тыс. до н.э. [Maxwell-Hyslop, 1971, pl. 100, 4]. Довольно близкой параллелью служит урартский золотой браслет VIII-VII вв. до н.э., составленный из похожих элементов [Kellner, Merhav, Kohlmeyer, Zahlhaas, 1991, N45]. Наиболее же точными аналогиями, что отмечал уже П. Амандри [Amandry, 1966, р. 895, fig. 5, 6], являются детали ожерелий того же времени из Алтын-Тепе и Зивие [Maxwell-Hyslop, 1971, pl. 154а, b; 163; 166; Ghirshman, 1979, pl. II, 5; XXI, 4, 5]. Не исключено, что они имеют ассирийское происхождение [Maxwell-Hyslop, 1971, р. 200-202]. Сходство этих предметов с цилиндрами диадемы подчёркивается одинаковой геометрической орнаментацией (рис. 40, 41).
Розетки диадемы, оконтуренные зернью, по внешнему облику напоминают украшения на пуговицах VIII-VII вв. до н.э. из Алтын-Тепе, возможно, тоже ассирийского производства [Maxwell-Hyslop, 1971, pl. 156], стилизованных плодах на серьге из Зивие [Ghirshman, 1979, pl. XXII, 4] и навершии ассирийского скипетра (?) из Келермеса (кат. 45) [Галанина, 1991, с. 16, рис. 1, 7].
Звездообразные бляшки, замыкающие ряд розеток на диадеме, по-видимому, восходят к солярным символам Месопотамии III-II тыс. до н.э. [Maxwell-Hyslop, 1971, fig. 97, pl. 61, 114]. Подвески с подобными знаками были найдены в Сирии, Урарту, Иране [Maxwell-Hyslop, 1971, pl. 100, 108, 109, 111, 125, 157]. Но, как правило, у этих «звёзд» большее количество лучей. Наиболее точной аналогией с тем же количеством лучей является одна из подвесок XV в. до н.э. из Угарита [Maxwell-Hyslop, 1971, pl. 109с] (рис. 42).
Шаровидные же подвески были распространены повсеместно и очень широко использовались древними ювелирами. Пожалуй, наиболее близки подвескам диадемы по внешнему облику и орнаменту серьги IX-VII вв. до н.э. из Амлаша и Патноса, изображающие плод фаната [Maxwell-Hyslop, 1971, fig. 115, pl. 153] (рис. 43).
Несколько реже встречаются подвески в виде полумесяца. Но, появившись в Месопотамии в III-II тыс. до н.э., они просуществовали длительное время и распространились на многие территории. Особое внимание привлекают подвески, имеющие продольные рёбра такие же, как и на
(51/52)
полумесяцах диадемы. Они были особенно популярны в XVI-XII вв. до н.э. в Сирии и Палестине [Maxwell-Hyslop, 1971, р. 149-150, pl. 110, с. 115, 119, 215]. Однако следует подчеркнуть, что на диадеме полумесяцы являются уже второстепенным, дополнительным элементом, выступая в качестве соединительного звена между замками и шаровидными подвесками, что может указывать на более позднюю дату.
Сердцевиной центральной розетки служит вставка из сардоникса [Придик, 1911, с. 15]. Эта и другие разновидности халцедона часто использовались древними мастерами для инкрустации ювелирных изделий. Необычайно широко на Ближнем Востоке в III-II тыс. до н.э. применялись каменные глазчатые вставки и бусины [Maxwell-Hyslop, 1971, fig. 49, pl. 21, 45, 49b, 69; Das Vorderasiatische Museum, 1989, N97, 123]. Но и позднее они продолжали использоваться, о чём свидетельствуют медальоны диадемы и ожерелий IX-VII вв. до н.э. из Нимруда и Зивие [Maxwell-Hyslop, 1971, pl. 164; Jahrbuch, 1999, Abb. 9, 25].
Достаточно близкие по типу мельгуновской диадеме изображения имеются на скульптурных памятниках Ближнего Востока. Так, Е.М. Придик нашёл ей соответствия на ассирийских рельефах [Придик, 1911, с. 16], а Л.С. Клочко и С.С. Бессонова — на скульптуре царя из Малатии [Клочко, 1982, с. 38; Бессонова, 1990, с. 32]. С целью расширения круга аналогий можно упомянуть резную кость VIII-VII вв. до н.э. из Нимруда, выполненную, по-видимому, сирийскими резчиками [Mallowan, 1966, N149, 151, 159; Maxwell-Hyslop, 1971, pl. 235; The Metropolitan Museum of Art, 1984, fig. 47]. Но, поскольку диадема из Литого кургана, очевидно, служила украшением головного убора, поиск параллелей стоит продолжить в этом направлении. Очень интересны две фигуры из Топрах-Кале — крылатый «сфинкс» из бронзы и камня, изготовленный урартским мастером [Пиотровский, 1962, рис. 18, ил. II, III], и обнажённая женщина из кости, видимо, сирийской работы [Vanden Berghe, De Meyer, 1983, cat. 233], датируемые VIII-VII вв. до н.э. (рис. 44, 45). Кроме того, известно изображение крылатого бога на урартском бронзовом шлеме [Seidl, Calmeyer, Merhav, 1991, N9] и сирийская костяная головка женщины [Mallowan, 1966, N225] около VIII в. до н.э. На головах этих персонажей показаны цилиндрические головные уборы, обрамлённые похожими диадемами.
Приведённые примеры в сочетании с аналогиями, упоминавшимися выше, могут указывать на урартское или скорее сирийское происхождение диадемы из Литого кургана (рис. 46). Временем её создания следует считать VIII-VII вв. до н.э.
Если диадема попала к скифам вместе с головным убором, то, скорее всего, сразу же была снята с него и вскоре подверглась переделке. Очень сомнительно, что она была надета на шлем, как предполагал Б.Н. Граков [Граков, 1971, с. 127], поскольку в Литом кургане никаких остатков металлического наголовья обнаружено не было. Более вероятным представляется использование диадемы в качестве украшения скифского башлыка или колпака, аналогичного венцу на башлыке у амазонки (молодого скифа? греческого лучника?), нарисованному на алабастре Пиакса и Гилена [Соколов, 1973, №5]. Не исключено и применение её как налобной повязки, стягивавшейся узлом или каким-то шнуром на затылке, подобно изображениям на обкладке горита из кургана Солоха и на кубке из кургана Куль-Оба [Артамонов, 1966, табл. 160-161, 226, 228].
Следующей по тщательности изготовления является ленточная диадема с протомой грифона и розетками из Келермеса (кат. 17) (рис. 47). К нижнему обрезу ленты на паре колечек подвешены каплевидные подвески. Края диадемы снабжены проволочными дужками, к которым крепятся на
(52/53)
двух шнурах, свитых из золотой проволоки, головки баранов. Некогда лепестки и сердцевины розеток, а также, возможно, глаза и чешуя грифона были заполнены пастовыми вставками (ныне остатки пасты бирюзового цвета прослеживаются на четырёх розетках). Протома грифона, головы баранов и каплевидные подвески были изготовлены из двух частей, оттиснутых по матрице и спаянных вместе.
Несмотря на внешнее изящество диадемы, некоторые детали её выполнены несколько небрежно. Бросается в глаза желание мастера избежать, где возможно, паяльных работ. Видимо, поэтому розетки не припаяны к ленте, а закреплены вставленными в отверстия отогнутыми язычками. Техника зерни совсем не использована. Эффект же грануляции достигается применением накладной рифлёной проволоки и нанесением мелких рубчиков на элементы протомы. Шнуры изготовлены из двух звеньев, пересекающихся в одном узле, а их крепление к петлям с помощью намотанной проволоки сделано грубо.
Судя по длине (64,5 см), диадему носили на каком-то головном уборе. При этом шнуры, очевидно, использовали как завязки.
Орнаментальный элемент предмета в виде зооморфной протомы — явление не уникальное для древнего Востока. Широко известны золотые диадемы египетских принцесс и младших цариц, украшенные змеями и протомами грифов [Hobson, 1990, р. 86]. С XVI в. до н.э. на этих венцах стали появляться и протомы других животных, например газелей, нередко в сочетании с розетками, инкрустированными сердоликом и пастой [Aldred, 1978, ill. 49]. На одном из них, декорированном головами оленя и газелей, отчётливо прослеживается сирийское влияние [Aldred, 1978, ill. 48]. Особо следует отметить, что протомы животных на упомянутых диадемах, как правило, съёмные, что наблюдается и на келермесском образце, где шея грифона вставлена в припаянную к ленте муфту и удерживается только посредством золотого штырька.
Однако египетские диадемы значительно короче келермесской, так как надевались непосредственно на причёску. Возможно, на Ближнем Востоке подобные украшения носили и на головных уборах, что можно заключить по луристанскому шлему X или VIII-VII вв. до н.э., увенчанному околышем с протомами козлов [Горелик, 1993, с. 166, табл. LXII, 1]. Хотя очень сомнительно, что данный предмет из Келермеса крепился на боевой шлем.
Исследователи, изучавшие келермесскую диадему, неоднократно отмечали родство представленного на ней грифона (рис. 48 [в цвете: Артамонов 1966, табл. 26]) с архаическим восточногреческим типом этого фантастического существа [Schefold, 1938, S. 12; Погребова, 1948, с. 64-65; Amandry, 1966, S. 908; Галанина, 1993, с. 103-104; 1997, с. 136].
Как установлено, формирование данного типа произошло на основе сиро-финикийских художественных образов. Непосредственным прототипом могли явиться сирийские и, по-видимому, ассирийские изображения VIII в. до н.э., аналогичные найденным в Кархемише, Сакча Гезю и крепости Салманасара III [Mallowan, 1966, р. 486-488]. Своеобразным переходным звеном к восточногреческому типу служит фигура орлиноголового демона на резной костяной панели от изголовья ложа (ок. 730 до н.э.) из крепости Салманасара [Mallowan, 1966, N383] (рис. 49). У него, кроме признаков, обычных для многих древневосточных фантастических существ (гребень из перьев, идущий вдоль шеи, вертикально завивающийся локон на лбу), наблюдаются новые черты, не свойственные орлиноголовым чудовищам того времени: широко распахнутый клюв, резко выгнутый вверх язык, спускающиеся от ушей «бакенбарды» и заострённые поднимающие-
(53/54)
ся над головой уши. Эти стилистические элементы и легли в основу восточногреческого образа.
Келермесский грифон имеет наиболее близкие соответствия на росписи ойнохои Леви 650-640 гг. до н.э. [Mer Egée. Grèce des Iles, 1979, N78] (рис. 51), золотых протомах на украшениях с о. Мелос середины VII в. до н.э. [Higgins, 1961, fig. 17; The Metropolitan Museum of Art, 1966, fig. 4] (рис. 52, 53), подвесках с о. Родос 630-620 гг. до н.э. [Mer Egée. Grèce des Iles, 1979, N89], бронзовых протомах из Олимпии и с о. Самос (?) конца VII в. до н.э. [Jantzen, 1955, Taf. 6, N14; Taf. 7, N23; Mitten, Doeringer, 1968, N65] (рис. 54) 1. [16] Однако его облик характеризуется большей округлостью головы, значительной величиной глаз 2, [17] более крутым изгибом языка, высовывающегося из распахнутого клюва, и отсутствием чешуйчатого покрытия на голове (наоборот, на темени грифона на диадеме показано 4 пера).
Если принять во внимание общую тенденцию развития восточногреческого образа (удлинение и утоньшение шеи, видоизменение выступа на лбу), то следует признать большую близость келермесского грифона к исходному древневосточному прототипу и отнести протому из Келермеса к одним из наиболее ранних восточногреческих изображений этого чудовища.
Грифон из Келермеса сходен также с золотыми протомами из Зивие, выполненными в ирано-ассиро-урартском стиле (аналогичные дуговидные ноздри, маленький локон за глазом, волнистые линии на небе, рифление контура клюва), что подчёркивает его тесную связь с искусством Ближнего Востока [Ghirshman, 1964, ill. 138] (рис. 50).
Относительно подвесок в виде головок баранов необходимо отметить, что и они достаточно близки к изображениям этого мотива в восточно-греческой традиции, например, к протоме в сердцевине розетки на золотой диадеме с о. Кос (630-620 до н.э.) [Mer Egée. Grèce des Iles, 1979, N84]. Но рога у баранов на келермесской диадеме гораздо крупнее и не отделены от головы, а составляют с ней единое целое, элементы морды решены иначе, к тому же при проработке деталей использована чеканка, а не техника зерни.
Самое близкое соответствие обнаруживает ближневосточный образ барана, представленный на колчанной застёжке (кат. 8) и «украшениях трона» (кат. 30-31) из Келермеса. Правда, головки баранов на диадеме всё же не являются их точной аналогией: отсутствуют рубчатые полосы на рогах и лбу, нет зигзагов на нижней челюсти, несколько иначе трактованы глаза. В целом же это варианты одной и той же схемы, характерной для ассирийских памятников VIII в. до н.э. [Mallowan, 1966, N124; Das Vorderasiatische Museum, 1989, N125]. Пожалуй, по некоторым признакам подвески на диадеме даже более близки к ассирийскому прототипу, чем окончания застёжки и «украшений трона» (шерсть на лбу и нижней челюсти показана штрихами, круглые глаза имеют сверху складки-дуги).
(54/55)
Найденные в Эфесе и на о. Мелос восьмилепестковые бляшки, украшающие диадему, напоминают розетки, датируемые приблизительно серединой VII в. до н.э. [Higgins, 1961, pl. 21A; The Metropolitan Museum of Art, 1966, fig. 4]. У них также по контуру чередуются гладкие лепестки с декорированными. Но восточногреческие розетки сложносоставные, двухрядные и имеют лепестки с различными окончаниями (у гладких — острые, у оконтуренных — округлые). Кроме того, келермесские и восточногреческие бляшки декорированы с помощью разных технических приёмов: в первом случае — вдавленное рифление, во втором — грануляция.
Если же рассматривать келермесскую диадему в целом, то, несмотря на некоторые отступления от изделий восточногреческих торевтов, она, несомненно, родственна с этим кругом памятников (рис. 55). Мастер, изготовивший предмет, должен был хорошо знать как греческое искусство, так и различные художественные направления Ближнего Востока. Возможно, он работал в Малой Азии, но не в греческой колонии, а в каком-то более отдалённом от побережья центре (Фригия? Лидия?). Основываясь на всех компонентах декора диадемы, ее следует датировать первой половиной — серединой VII в. до н.э. Вряд ли можно считать предмет греческим изделием для скифского заказчика, как полагал Р. Хиггинс [Higgins, 1961, р. 122-125], поскольку для этого нет никаких оснований. Скорее всего, диадема является трофеем или покупкой скифов во время их пребывания на Ближнем Востоке.
Другая ленточная диадема из Келермеса украшена рядами выпуклых точек и накладными стилизованными цветами, состоящими из низкого полого цилиндра с пятью отогнутыми лепестками и напаянной сверху трубки, в которой, очевидно, находилась пастовая вставка (кат. 15). Вероятно, мастер рассчитывал, что диадема будет надеваться непосредственно на причёску, поэтому края предмета загнуты наружу, и даже точечный орнамент нанесён с тыльной стороны. Бросается в глаза небрежность, с которой выполнена орнаментация.
Поперечные ряды точек носят бессистемный характер, промежутки между ними часто различны, а порой ряды и вовсе сдвоены. Крупные полусферические выпуклости, служащие основанием для цветов, видимо, должны были занимать центр между этими точечными рядами, в действительности же в двух случаях перекрывают их. Лепестки цветов вырезаны неаккуратно, имеют разную длину, а расстояния между ними нередко не совпадают.
Диадема из Келермеса находит близкую аналогию в комплексе из Зивие, что уже отмечалось специалистами [Галанина, 1997, с. 134]. Этот фрагментированный предмет также был изготовлен из золотой ленты с отогнутыми наружу краями и украшен розетками, инкрустированными пастой [Ghirshman, 1964, ill. 531]. Совпадают и петли у этих предметов — высокая дужка с закрученными в спираль концами. У исследователей не сложилось единого мнения о происхождении диадемы из Зивие. А. Годар считал её маннейским изделием, которое испытало сильное ассирийское влияние [Godar, 1950, р. 104-105], а Р. Гиршман предположительно отнёс вещь к памятникам урартской торевтики [Ghirshman, 1964, р. 439].
Несмотря на типологическое сходство двух диадем, они, скорее всего, относятся к различным художественным направлениям, о чём свидетельствует характер их орнаментации. Плоскостные розетки из Зивие со слегка выступающими контурами лепестков и сердцевин разительно отличаются от двусоставной конструкции келермесских цветков, лепестки которых орнаментированы выпуклой линией с точкой. Стоит отметить, что в комплексе из Зивие ни одна из многочисленных бляшек в виде розеток,
(55/56)
кружков, пальметок, ромбов, крестов не изготовлена из нескольких сборных частей. Среди же находок из Келермеса есть ещё одна диадема, одним из украшений которой являются цветки ещё более сложной конструкции (кат. 16).
Сложносоставные цветы и розетки известны в памятниках восточно-греческого искусства (золотые бляшки VII в. до н.э. из Эфеса и о. Мелос [Jacobsthal, 1956, fig. 152; Mer Egée. Grèce des Iles, 1979, N86-88]) и палестинской торевтики (розетки золотой диадемы XIX-XVI вв. до н.э. из Аджула [Maxwell-Hyslop, 1971, pl. 86]). Причём в этом ряду палестинские довольно простые розетки являются прототипом восточногреческих многокомпонентных украшений. Цветы же на келермесской диадеме по своей конструкции выступают в качестве промежуточного звена между ними.
Петли диадемы из Келермеса со спиралевидными концами, кроме находки из Зивие, обнаруживают много параллелей на изделиях ближневосточного происхождения, начиная со II тыс. до н.э. [Maxwell-Hyslop, 1971, pl. 88, 101, fig. 83]. Использование такого типа петель было для древних ювелиров наиболее простым способом превращения чисто технической детали в орнаментальный элемент.
Что касается выпуклого точечного орнамента диадемы, то это тоже очень распространённый приём древних торевтов, который часто использовался для замены сложной техники зерни. В качестве аналогий можно привести сирийские, иранские [Maxwell-Hyslop, 1971, pl. 104, 105, 108, 109, 123; Negahban, 1996, pl. 88, 399] и ионийские [Higgins, 1961, pl. 19] изделия. И здесь келермесский узор по стилистике занимает центральное место между образцами декора на предметах из Дэйламана (конец II — начало I тыс. до н.э.) [Maxwell-Hyslop, 1971, pl. 123] и Камира (VII в. до н.э.) [Higgins, 1961, pl. 19].
Судя по тому, что на келермесской диадеме нашли отражение традиции как Ближнего Востока, так и восточногреческого мира, её происхождение можно связать с Малой Азией и датировать широким хронологическим промежутком от VIII в. до н.э. до середины VII в. до н.э.
^ Золотая лента, украшенная фигурами хищных птиц, цветами, розетками и кружками, происходит из того же комплекса, что и предыдущая диадема (кат. 16). Обращает на себя внимание богатство отделки предмета и обилие технических приёмов, использованных при её создании (чеканка, металлопластика, оттиск по матрице, зернь, инкрустация), хотя выглядит она значительно грубее предыдущей. Отчётливо прослеживаются следы неоднократных починок. К тому же два орнаментальных кружка на верхнем крае ленты, очевидно, заменяют утраченные фигурки птиц, располагавшиеся там (А.Ю. Алексеев, устное сообщение).
По свидетельству обнаружившего диадему Д.Г. Шульца, предмет находился на бронзовом шлеме. Среди всех известных раннескифских боевых наголовий только о двух (келермесском и из Воронцовского кургана) имеются сведения, что они были украшены золотыми венцами. Анализ воронцовской диадемы, проведённый Л.А. Мацулевичем, показал, что она была составлена из разновременных частей и не имела никакого отношения к скифскому шлему [Рабинович, 1941, с. 111]. Это заключение поставило под сомнение и сообщение Д.Г. Шульца [Рабинович, 1941, с. 109; Черненко, 1968, с. 80]. Однако А.П. Манцевич, сравнив длины ленты и нижнего края шлема (соответственно, 67 и 66/68 см), убедительно показала возможность их компоновки [Манцевич, 1959, с. 62].
Предмет несколько напоминает золотую фрагментированную диадему из Зивие, на которой парные головы хищных птиц обрамляют ленту, украшенную кружками и изображениями пантер [Ghirshman, 1964, ill. 147; Галанина, 1997, с. 134].
(56/57)
Накладные фигуры хищных пернатых на келермесской диадеме представляют два типа: птицы, расположенные фронтально, с распахнутыми крыльями и головой, показанной в профиль, и птицы чисто профильные, со сложенными крыльями и головой, обращённой назад. Присутствие на диадеме этих фигур исследователи связывают с влиянием скифского искусства или даже считают доказательством скифского (агафирсского) производства вещи [Манцевич, 1959, с. 76].
Однако надо отметить, что образ летящей птицы с головой в профиль и крыльями, выгнутыми вверх, был широко распространён в различных культурах древнего мира. Такие изображения во II-I тыс. до н.э. встречаются как на Ближнем Востоке [Воронец, 1956, рис. 6, 2; Матье, Афанасьева, Дьяконов, Луконин, 1968, ил. 207а, 275в; Maxwell-Hyslop, 1971, р. 118, pl. Е] и островах Средиземного моря [Колпинский, 1970, ил. 87а], так и в Китае [Комиссаров, 1988, рис. 72, 15; 78, 8], Монголии [Новгородова, 1989, рис. 2 на с. 242, рис. на с. 250, 319]. Что касается скифо-сибирского звериного стиля, то там этот мотив появляется достаточно поздно.
Несколько иначе обстоит дело с образом птицы сидящей и смотрящей назад. Он был популярен в ближневосточном и средиземноморском мире [Champdor, 1964, Abb. 211; Матье, Афанасьева, Дьяконов, Луконин, 1968, ил. 201б; Колпинский, 1970, ил. 87б], а также — в круге древнекочевнических культур в период архаики [Черников, 1965, табл. XIII, XIV; Вишневская, Итина, 1971, рис. 7, 10, Кадырбаев, Курманкулов, 1976, рис. 12; Завитухина, 1983, кат. 221-225; Археология СССР, 1992, табл. 54, 7, 101, 16]. Однако большее предпочтение скифо-сибирские мастера отдавали изображениям отдельных голов хищных птиц, что и было подмечено ближневосточными торевтами, работавшими по скифским заказам и копировавшими звериный стиль (орнамент выступа ножен меча из Келермеса (кат. 1), накладки диска, обрамление пекторали, декор ножен из Зивие [Ghirshman, 1964, ill. 142, 147, 386]). Нельзя исключать, что создатель келермесской диадемы ориентировался на кочевнического заказчика, однако творил он в русле родной художественной традиции, лишь используя образы, более-менее понятные скифам.
Применение зерни для детализации фигур птиц нередко встречается на палестинских и восточногреческих памятниках. Например, аналогично проработаны пернатые на золотых серьгах из Аджула (II тыс. до н.э.) [Maxwell-Hyslop, 1971, pl. E], розетке с о. Мелос (середина VII в. до н.э.) [Колпинский, 1970, ил. 91а] и подвеске с о. Родос [Mer Egée. Grèce des Iles, 1979, N89]. Правда, крылья у них чрезмерно перегружены орнаментом. Вообще довольно скупое детальное оформление фигур на келермесской диадеме больше всего напоминает проработку золотых птиц из Литого кургана [Придик, 1911, табл. II]. Особенно это видно при сравнении отделки тел: острый угол аналогично делит туловища птиц на две части. Истоки данного элемента фиксируются на бляшках II тыс. до н.э. из Египта [Aldred, 1978, ill. 15]. Таким образом, можно утверждать, что не только иконография, но и манера исполнения фигур птиц на диадеме традиционны для искусства ближневосточно-средиземноморского региона.
Цветы на диадеме составлены из вогнутых цилиндров и остроконечных лепестков. Как было показано при анализе предыдущей вещи, сложносоставные цветы находят параллели в различных ближневосточных школах. То же относится и к приему заполнения зернью всей сердцевины цветка. Согласно Л.К. Галаниной, параллелью может служить отделка цветов на серьгах из ст. Крымской (кат. 20-21) [Галанина, 1997, с. 134]. Можно также упомянуть и розетки из комплекса Зивие [Ghirshman, 1979, pl. III, 1], золотое ожерелье XVIII-XVII вв. до н.э. из Дилбата, подвеску
(57/58)
XVI-XII вв. до н.э. из Ашшура [Maxwell-Hyslop, 1971, pl. 61, 64, fig. 102] и украшение 630-620 гг. до н.э. с о. Родос [Mer Egée. Grèce des Iles, 1979, N90].
По конструктивным особенностям цветы диадемы из Келермеса нельзя однозначно отнести ни к ближневосточной, ни к греческой традиции. И хотя чисто внешне они ближе к восточногреческим украшениям, относительный примитивизм исполнения не позволяет считать их продукцией ионийских мастерских.
Розетки, обрамляющие нижний край диадемы, не имеют каких-либо специфических черт, отличающих их от множества подобных, принадлежащих различным культурам древнего мира. Зато кружки с точечным орнаментом, венчающие диадему, — деталь довольно редкая. Они не известны в восточногреческой торевтике, но и среди памятников ближневосточного искусства I тыс. до н.э. в качестве самостоятельного элемента украшений почти не применялись. Согласно Л.К. Галаниной, ближайшей аналогией является изображение на бронзовом поясе из Кармир-Блура [Галанина, 1997, с. 134], но там оно служит символом, венчающим «древо жизни». Аналогичным образом кружки с точками использованы на бронзовой булавке X-IX вв. до н.э. из Луристана, где они также входят в композицию «древа жизни» [Ванден-Берге, 1992, кат. 268], и на золотой розетке IX в. до н.э. из Ашшура, на которой кружок заменяет сердцевину [Maxwell-Hyslop, 1971, fig. 146]. Наиболее точное подобие для этой детали келермесской диадемы можно наблюдать на золотых подвесках III тыс. до н.э. из Кюль Тепе и бляшках II тыс. до н.э. из Дэйламана и Амлаша [Maxwell-Hyslop, 1971, pl. 68, 123, 124].
Представляется странным возрождение на диадеме из Келермеса очень древней ближневосточной традиции применения мотива кружка с точечным орнаментом в виде отдельного самостоятельного знака. По-видимому, мастер чисто механически заимствовал чужой символ, стремясь к внешнему разнообразию художественных элементов вещи, связанных, вероятно, с небесно-солнечной символикой.
Своеобразны циркульные розетки, заключённые в окружность. Они выполнены из зерни и располагаются у обоих окончаний диадемы. Этот мотив не был характерен для восточногреческого искусства. Хотя известна циркульная розетка на родосском бронзовом сосуде [Poulsen, 1912, Abb. 86], однако она является подражанием финикийскому образцу, сходному с рисунком, представленным на чаше из Нимруда [Френсис, 1984, №412-414]. Особенно часто такие розетки встречаются на изделиях из Ирана (металлическая посуда конца II-I тыс. до н.э. из Марлика (The Metropolitan Museum of Art, 1965, fig. 3; Negahban, 1996, ill. 11, 10, 21, 49, 51, 59, 61, fig. 5, 21; 6, 49; 7, 51; 9, 61], бронзовая чаша 675-625 гг. до н.э. [Gehrig, Niemeyer, 1990, Abb. 63]), Палестины (бронзовые сосуды II тыс. до н.э. [Tubb, 1988, pl. 156]), Сирии (костяные пиксиды IX в. до н.э. из Хасанлу [Muscarella, 1980, р. 127, N246А]) и Финикии (серебряные чаши VIII-VII вв. до н.э. с о. Кипр [Bessert, 1951, Abb. 311] и из Нимруда [Falsone, 1988, pl. 152]). Самое близкое подобие келермесская розетка находит на иранской чаше [Gehrig, Niemeyer, 1990, Abb. 63].
Как показано выше, многие элементы диадемы из Келермеса имеют параллели на ближневосточных предметах II-I тыс. до н.э., а также на ионийских вещах последней трети VII в. до н.э. При этом диадему нельзя определённо отнести ни к одному из двух художественных направлений, так как она занимает промежуточное положение между обеими традициями. Однако, учитывая большую стилистическую близость диадемы к восточногреческим изделиям, можно осторожно датировать её периодом
(58/59)
предшествующим, но в то же время достаточно близким к появлению этих памятников, то есть первой половиной — серединой VII в. до н.э.
^ Обломок золотой пластины из Литого кургана, украшенный изображениями обезьяны и трёх птиц (кат. 19).
До сих пор исследователи не пришли к единой точке зрения относительно того, какие пернатые представлены на пластине. Е.М. Придик считал крупных птиц страусами, а небольшую — гусем [Придик, 1911, с. 16]. Б.Н. Граков называл всех птиц ибисами [Граков, 1971, с. 127]. Очевидно, следует согласиться с первой точкой зрения, так как у двух фигур показаны признаки, свойственные только страусам: чётко выраженная двупалость и мощные оголённые бедра. Что касается третьей птицы, то, без сомнения, она водоплавающая, но, скорее всего, утка, а не гусь.
Относительно стилистики изображений у исследователей сложилось впечатление, что они выполнены в ключе греко-ионийского искусства [Phiotrovsky, Galanina, Grach, 1986, pl. 53]. Однако ещё Е.М. Придик справедливо отмечал, что фигура обезьяны находит параллели в ассирийском искусстве [Придик, 1911, с. 16]. Сходство достигается, в первую очередь, трактовкой обезьяньих лап в виде человеческих рук и ног. Это можно наблюдать на ассирийских рельефах IX в. до н.э., где, как и у обезьяны на пластине, часто не показан хвост, но намечены гениталии [Barnett, 1975, pl. 7, 46]. Поза животного тоже указывает на круг памятников Ближнего Востока. Как правило, таким образом изображались в Месопотамии и Иране во II-I тыс. до н.э. фигуры обезьян, обезьяноподобных существ, а иногда и людей [История древнего Востока, 1983, ил. 127г; Луконин, 1987, рис. на с. 224; Курочкин, 1990, с. 41-50; Ванден-Берге, 1992, кат. 271]. Наиболее близки мельгуновскому варианту изображения на терракотовом рельефе II тыс. до н.э. из Вавилона и бронзовой булавке X-IX вв. до н.э. из Луристана. Отличием служит только то, что на пластине фигура показана не строго в профиль, у неё представлены две лапы-руки.
Изображения страусов трактованы в традициях новоассирийского искусства [Perrot, Chipier, 1984, рис. на с. 566; Porada, 1948, pl. LXXXVI, 606Е; CXVII, 773Е; СХХ, 759, 763; Mallowan, 1966, N61, 564; Vanden Berghe, De Meyer, 1983, cat. 222] и очень похожи на птиц, представленных на золотом сосуде из Келермеса (кат. 35-36).
Мотив водоплавающей птицы (утка) был наиболее характерен для восточногреческого искусства, начиная с периода архаики (росписи кратера ок. 640 г. до н.э. [Mer Egée. Grèce des Iles, 1979, N60]). Однако он не был чужд и художественным традициям Ближнего Востока (рельефы храма фараона Сети I в Абидосе XIV в. до н.э. [Матье, Афанасьева, Дьяконов, Луконин, 1968, ил. 139], цилиндрическая месопотамская печать III тыс. до н.э. [Афанасьева, 1979, табл. XVIIa]). И все же фигура утки (?), судя по стилистическим признакам, вероятнее всего, восходит к греческому образу. Остальные фигуры, несмотря на близость к искусству Ассирии, выполнены с нарушением канонов. Страусы показаны клюющими, что не фиксируется на ассирийских памятниках, а у обезьяны, представленной в традиционной позе, появилась вторая рука, почёсывающая спину.
Можно допустить, что предмет был изготовлен ассирийцем в конце VII в. до н.э., когда традиции новоассирийского искусства ослабли и подверглись стилистическим изменениям. Однако это вызывает большие сомнения. Более вероятно предположение, что пластина создавалась в каком-то центре, одинаково доступном влияниям художественных направлений Ассирии и Ионии, и тогда не исключается более ранняя датировка изделия.
^ Золотые серьги в форме полумесяца составляют группу из шести предметов (кат. 20-25). Две из них в 1895 г. были приобретены Н.И. Весе-
(59/60)
ловским в ст. Крымской, остальные происходят из курганов близ сел. Нартан. Плоскости серег украшены узорами из зерни. На одном из концов у большинства серёг припаяна заострённая дужка, продевавшаяся в мочку уха. Снизу серьги имеют объёмные декоративные дополнения, за исключением пары, у которой декор состоит только из геометрического орнамента из зерни (кат. 22-23). Характерная форма серёг указывает на ближневосточное происхождение, прототип её известен там с III тыс. до н.э. [Maxwell-Hyslop, 1971, fig. 33k, pl. 39]. Наиболее же точные аналогии находят среди украшений IX в. до н.э. ассирийского [Jahrbuch, 1999, Abb. 11] и VII-VI вв. до н.э. сиро-финикийского [Алексеев, 1992, с. 50, примеч. 26] типов. Подобные серьги были обнаружены в Кармир-Блуре, Уре, Зивие [Maxwell-Hyslop, 1971, pl. 158, 159, 168а, с].
Из всей группы у серьги из кургана 12 у сел. Нартан наиболее упрощённый узор из зерни, зато на ней имеется дополнительный элемент в виде стилизованного плода граната (кат. 24), исходная форма которого угадывается на серьге из Телль Халафа, датируемой X — началом IX в. до н.э. [Maxwell-Hyslop, 1971, fig. 115, pl. 153]. Из разграбленного раннескифского кургана у с. Глинище Зеньковского района на левобережье Днепра происходит аналогичная золотая серьга [Петренко, 1978, табл. 19, 1]. От нартановской она отличается замещением зерни выпуклым линейным орнаментом, более упрощённой схемой граната, отсутствием проволочной обмотки концов полумесяца и оформлением окончаний шариками и кольцом, что может указывать на более позднюю дату данного экземпляра. По мнению В.Г. Петренко, предмет из с. Глинище датируется VI в. до н.э. [Петренко, 1978, с. 29]. Следовательно, будет резонно отнести серьгу из кургана 12 сел. Нартан к VII в. до н.э.
Необычно выглядит серьга из кургана 7 сел. Нартан (кат. 25). Она имеет два лепестка, отходящие от выпуклой стороны, а также полусферический колпачок с шестью бубенцами. Параллели такой серьге не известны. Однако по общим очертаниям она однотипна с предыдущей и, повидимому, близка к ней по времени изготовления.
Шедевром древнего ювелирного искусства является пара серёг из ст. Крымской (кат. 20-21). Они очень тщательно изготовлены, а их декорировка отличается изяществом и богатством форм (кроме обычной зерни использована инкрустация бирюзой и сердоликом, накладные украшения выполнены в виде цветов, составленных из золотых, бирюзовых и сердоликовых деталей). Серьги не имеют дужек. Вместо них присутствуют петли из проволочных шнуров и стерженьки, которые соединяют окончания «полумесяцев». А.П. Манцевич считала, что стерженьки продевались в мочки, а петли надевались сверху на уши, что способствовало уравновешиванию серьги [Манцевич, 1961, с. 157-158]. Скорее всего, при подвеске использовались только петли, поскольку их длина (5,8 см) позволяла располагать серьги непосредственно под мочками. Штырьки же, не являясь съёмными (на их концах напаяно по шарику), вряд ли предназначались для вдевания в мочки, видимо, они служили лишь декоративным элементом.
Аналогии этим украшениям, как отмечала А.П. Манцевич, обнаруживаются на ассирийских рельефах [Манцевич, 1961, с. 157]. Действительно, изображения подобных вещей на рельефах достаточно многочисленны [Maxwell-Hyslop, 1971, fig. 127, type 5]. К сожалению, А.П. Манцевич не реализовала своё наблюдение. Желая доказать фракийское происхождение серег из ст. Крымской, она основной упор сделала на характеристику минералогических особенностей вставок. А.П. Манцевич утверждала, что с Ближнего Востока происходит только особо ценная бирюза небесно-голу-
(60/61)
бого цвета, использованная же на серьгах серо-зелёная могла быть добыта в Европе [Манцевич, 1961, с. 159-160]. При этом А.П. Манцевич не смутило то обстоятельство, что данный минерал очень нестойкий и легко взаимодействует с жирами, маслами, щёлочами, углекислым газом, в результате чего меняет цвет [Вахрушев, 1991, с. 135]. Относительно сердолика она лишь указала, что в Саксонии и Трансильвании также имеются его месторождения [Манцевич, 1961, с. 160]. На этом основании А.П. Манцевич сделала вывод о «весьма вероятной связи» серёг из ст. Крымской с Центральной Европой. В настоящий момент такое заключение никого удовлетворить не может. Поэтому следует вновь обратить внимание на круг ближневосточных памятников. Среди многочисленных предметов комплекса Зивие известна похожая золотая серьга в виде полумесяца, орнаментированная узорами из зерни и украшенная стилизованными плодами граната или коробочками мака [Ghirshman, 1979, pl. XXII, 4]. Правда, она не имеет каменных вставок, а накладные растительные элементы слишком крупны, но в целом облик вещи достаточно близок образцам из ст. Крымской. Почти точной аналогией является золотая серьга из Ура [Maxwell-Hyslop, 1971, pl. 233], аналогично украшенная цветами, вставками, линейным орнаментом из зерни и имеющая на концах шайбы. Отличием служит более скромная декорировка, наличие дужек, размещение вставок на верхней плоскости и присутствие дополнительного, пятого цветка. К.Р. Максвелл-Хислоп склонна датировать её временем Ашшурбанипала (669-639/627 до н.э.) [Maxwell-Hyslop, 1971, р. 244]. Вероятно, и серьги из ст. Крымской следует отнести к ассирийским изделиям последней трети VII в. до н.э. Однако надо отметить, что ни одна из приведённых аналогий не имеет петли из золотого шнура, что подчеркивает уникальность предметов из ст. Крымской.
^ Детали дворцовой мебели. Наибольший интерес представляет комплект серебряных деталей из Литого кургана (кат. 26-29). В захоронении были найдены 4 полых усеченных конуса с утолщением вверху, 4 трубки с выпуклыми поясками, 1 низкий цилиндр с прорезями и фрагменты от двух подобных, а также 23 гвоздя со шляпками в виде розеток (рис. 56). Многие детали местами украшены золотой фольгой.
Как предположил Е.М. Придик, эти предметы могли являться частями ближневосточного ложа, стола или скамейки [Придик, 1911, с. 18]. А.П. Манцевич утверждала, что это принадлежности парадного табурета ассирийского типа конца VIII-VII в. до н.э. [Манцевич, 1958, с. 199-202]. Последняя точка зрения нашла признание у большинства исследователей.
Изделия в виде усечённого конуса обычно определяются и описываются в литературе как ножки. Низкие цилиндры с прорезями, по справедливому наблюдению Е.М. Придика и А.П. Манцевич, служили соединением проножек [Придик, 1911, с. 18; Манцевич, 1958, с. 199, рис. 3] 1. [18] Трубки с выпуклыми поясками также могли являться деталями ножек, крепясь сверху цилиндров [Манцевич, 1958, с. 199] 2. [19] Их вогнутый край, по-видимому, должен был вплотную подходить к полукруглым царгам.
В результате реконструкции предмет можно представить в виде деревянной скамеечки с четырьмя ножками, четырьмя проножками, двумя
(61/62)
царгами и крышкой, покрытой каким-то материалом (кожей?), укреплённым гвоздями (рис. 58). Общая высота предмета составляла приблизительно 25-30 см. Бóльшую высоту не позволяет предполагать внутренний диаметр трубок (2,0-2,2 см).
Круг поиска аналогий уже был ограничен Е.М. Придиком и А.П. Манцевич регионом Ближнего Востока. Сузить этот круг позволило наблюдение Б.Б. Пиотровского, указывающее, что пояски из рельефных лепестков, которые украшают наконечники ножек, являются устойчивым орнаментальным мотивом искусства Урарту [Пиотровский, 1962, с. 54-56].
Разумеется, этот изобразительный элемент был известен и другим художественным традициям, например, Северной Сирии (каменная скульптура IX в. до н.э. из Телль-Халафа [Das Vorderasiatische Museum, 1992, N157]), Ассирии (бронзовый табурет из Нимруда [Манцевич, 1958, рис. 4], рельефы из дворцов Ашшур-нацир-апала II (883-859 до н.э.) в Нимруде и Саргона II (721-705 до н.э.) в Хорсабаде [Barnett, 1975, pl. 8; Merhav, 1991, fig. 8]), комплексу Зивие (фрагменты костяного предмета с аналогичными лепестками [Ghirshman, 1979, pl. XIV, 5, 6]). Однако большинство предметов с лепестковым декором происходит из урартских комплексов: бронзовые части табурета и деревянная ножка из Кармир-Блура [Пиотровский, 1962, рис. 25; 1970, ил. 76] (рис. 59), детали стола и табурета 713-697 гг. до н.э. из Алтын-Тепе [Merhav, 1991, N8а, b] (рис. 57), а также канделябр 810-786 гг. до н.э. [Merhav, 1991, N11а; Belli, 1991, N2] (рис. 60), фигурные элементы трона [Пиотровский, 1962, рис. 11-14] (рис. 61), фрагмент колонки VIII-VII вв. до н.э. [Vanden Berghe, De Meyer, 1983, cat. N128] и костяное основание ножки из Топрах-Кале [Van Loon, 1966, pl. XXXIV].
По внешним очертаниям орнамент наконечников ножек из Литого кургана, пожалуй, наиболее близок образцам из Кармир-Блура, Алтын-Тепе и Топрах-Кале (рис. 57, 61), так как только на этих изделиях не показаны продолжения лепестков, спускающиеся до выпуклого валика 1. [20] Но и здесь совпадение не полное. Ножки из Алтын-Тепе и Топрах-Кале не расширяются книзу, а зауживаются, и валики на них совершенно гладкие, без какой-либо штриховки. Ножка из Кармир-Блура расширяется книзу, но украшена дополнительным гладким валиком.
Ножки с расширением внизу на предметах древневосточной мебели встречаются нечасто. Кроме упоминавшейся аналогии из Кармир-Блура, их можно видеть на рисунках тронов на урартских пекторалях и медальонах, в основном относящихся к VII в. до н.э. [Merhav, 1991, fig. 1, 1-6]. Проножки этих тронов, как правило, показаны гладкими, не имеющими украшений в виде парных расходящихся в разные стороны пальметок, что обязательно отмечается на более ранних памятниках.
К сожалению, из-за недостаточно разработанной хронологии ряда урартских изделий трудно проследить этапы развития урартской парадной мебели. Но и сейчас можно высказать предположение, что во второй половине VII в. до н.э. в Урарту мебель типологически изменяется: начинают преобладать троны, табуреты и столы с окончаниями ножек в форме бычьих ног и львиных лап [Merhav, 1991, fig. 2, 1-5; Kellner, 1991, N1, 6]. Поэтому время изготовления предмета мебели из Литого кургана следует отнести к первой половине — середине VII в. до н.э. Предложенная выше реконструкция не позволяет считать его ни ложем, ни столом, ни троном,
(63/63)
ни табуретом. Скорее всего, это была скамеечка для ног, обычно входившая в комплект к трону. Аналогичные по конструкции скамеечки показаны на рельефах около 730 г. до н.э. из Зенджирли [Das Vorderasiatische Museum, 1992, N170] и около 650 г. до н.э. из Ниневии [Barnett, 1975, pl. 169, 170] (рис. 62, 63, 64).
Находка урартской скамеечки в скифском кургане не должна вызывать удивления, так как в период первых тесных контактов с государствами Ближнего Востока скифы, приобретая инокультурные вещи, очевидно, отдавали предпочтение предметам, внешне похожим на привычные, типологически близкие к их собственным. Общеизвестно, что для кочевнического мира была характерна низкая, приземистая мебель.
То, что в скифском кургане оказалась серебряная с позолотой скамеечка, — факт очень важный. По мнению исследователей, он фиксирует распространение у скифов представлений о божественности царя и сакральности трона [Бессонова, 1990, с. 33].
Неожиданную параллель использованию кочевниками предметов, аналогичных скамеечке из Литого кургана, можно встретить в Записках Марко Поло. Согласно им, монгольский военачальник, командующий ста тысячами воинов, или самым большим воинским соединением, имел право восседать на серебряном «стуле» [Марко Поло, 1940, с. 82].
К деталям мебели обычно относят скульптурные наконечники в виде головы животных и так называемые «украшения трона». Однако это нельзя считать окончательно доказанным и следует принимать как одну из наиболее правдоподобных гипотез 1. [21]
^ «Украшения трона» из Келермеса (кат. 30-31), часто интерпретируемые как «ручки трона» [Граков, 1971, с. 116], имеют вид двух уплощённых снизу полых золотых цилиндров, на торцах которых укреплены две объёмные головы львов. От боковых сторон предметов отходят парные скульптурные изображения — бараньи головы и плоды растения 2. [22] Вещи орнаментированы зернью, перегородчатой инкрустацией из янтаря и пасты. Вероятно, когда-то пастой были заполнены также глаза львов и баранов, розетки растения и внутренние пространства колец на декоративных «ошейниках» львов.
Модель плода растения на «украшениях трона» уже была тщательно изучена исследователями, и в качестве параллели была приведена костяная булавка второй половины VII в. до н.э. из Эфеса [Jacobsthal, 1956, fig. 145; Галанина, 1991, с. 16; 1997, с. 154]. Действительно, внешнее сходство у них большое, однако плод на эфесской находке увенчан распустившимся цветком, а на келермесских предметах — плоской геометрической розеткой. Опираясь на этот признак, отмеченный Л.К. Галаниной [Галанина, 1991, с. 16; 1997, с. 154], можно указать другие близкие аналогии, имеющие урартское происхождение: бронзовая со стеклом булавка [Kellner, Merhav, Kohlmeyer, Zahlhaas, 1991, N34], золотая булавка и серебряная с золотом крышка из Кармир-Блура [Пиотровский, 1970, ил. 78, 80], датируемые VIII-VII вв. до н.э.
(63/64)
Стилистика голов баранов уже рассматривалась в разделе, посвящённом застёжкам. Там же был сделан вывод о тождестве их иконографии с ассирийским образом.
Пожалуй, самым интересным элементом «украшений трона» являются скульптурные головы львов. У хищников показаны оскаленные пасти, дуговидные складки на морде и под глазами, трапециевидная фигура на лбу, составленная из колечек с напаянными на них шариками. В сходной манере трактованы головы львов на двух золотых наконечниках из Келермеса (кат. 32-33), у которых также оскалены пасти, идентично выполнены складки на морде и под глазами (не совпадает только количество складок и дополнительная точечная орнаментация их на «украшениях трона»), одинаковую форму имеют уши и глаза. Даже львиные «ошейники» сходны в общих чертах. Вместе с тем у зверей на наконечниках вместо «трапеции» на лбу представлены два кольца из рифлёной проволоки и два ряда выпуклых складок, на носу отсутствует колечко с шариком, а «бакенбарды» и уши не покрыты штриховкой. Кроме того, при отделке предметов использованы разные технические приёмы. На «украшениях трона» применены зернь и рифление, а на наконечниках предпочтение отдано рубчатой проволоке. Несмотря на это, оба торевта стремились передать один и тот же каноничный образ, который, кстати, нашел отражение на некоторых вещах комплекса Зивие [Ghirshman, 1979, pl. XIII, 8, 9; XVI, 4].
П. Амандри в стилистическом обзоре некоторых предметов торевтики из раннескифских курганов отметил, что подтреугольная форма глаз келермесских львов находит параллели в искусстве Урарту и Ирана [Amandry, 1966, р. 894]. Но иранский стереотип льва разительно отличается от изображений из Келермеса. А урартский хищник, хотя и совпадает с келермесским по ряду признаков, отличается существенной чертой — «ступенчатыми» морщинами на носу [Akurgal, 1968, Abb. 24-30].
Очень похожа на келермесские образцы (особенно на наконечники) голова зверя на найденном в Иране фрагменте кубка из ляпис-лазури начала I тыс. до н.э., являющегося, скорее всего, не местным изделием [Schauensee, 1988, fig. 27]. Ещё более близкие аналогии наблюдаются на памятниках искусства Ассирии. У ассирийских львов те же дуговидные складки на морде, похожие морщины, обрамляющие нос, подтреугольные глаза так же оконтурены валиком, а на лбу показаны выступы, так называемые «восточные шишки» [Mallowan, 1966, N74, 117; Jahrbuch, 1999, Abb. 29, 30, 48, 49], которые в виде колец выполнены у львов на келермесских наконечниках. На одном ассирийском экземпляре имеется даже точечное оформление складок морды, как и на «украшениях трона» [Mallowan, 1966, N74], что, по-видимому, является заимствованием из северосирийской художественной традиции [Mallowan, 1966, р. 580, N542, 543]. Особое внимание привлекает предмет из Нимруда, изготовленный из полированного известняка [Mallowan, 1966, N117] и, вероятно, служивший рукояткой меча или кинжала (судя по многочисленным аналогиям на рельефах [Hrouda, 1965, Taf. 21, 19, 20; 22, 1-3, 6]). Он находит соответствия с «украшениями трона» не только по иконографии львиных голов, но и по принципу компоновки декоративных деталей — сочетание плода граната (мака?) и парных голов хищников с цилиндрической плоскостью.
Перечисленные ассирийские памятники датируются IX-VIII вв. до н.э. [Mallowan, 1966, р. 182, 580; Jahrbuch, 1999, S. 4]. Однако существование данного типа льва (как и образа барана) не ограничивается только этим промежутком времени. Он был популярен в древнем мире достаточно продолжительное время. Позднейшее его проявление фиксируется на датируемых началом VI в. до н.э. находках с о. Самос, на которых морды
(64/65)
животных представлены уже в несколько модифицированном, более разработанном виде [Mallowan, 1966, р. 136, 182; Freyer-Schauenburg, 1966, Taf. 22] 1. [23]
Среди приведённых параллелей наиболее близкие изображения относятся к последней трети VIII в. до н.э. Не противоречат этой дате и указанные ранее аналогии бараньим головам.
Таким образом, наиболее вероятным временем изготовления «украшений трона» является последняя треть VIII-VII в. до н.э. Центром производства вещей следует считать Ассирию. То же можно сказать и о наконечниках.
Остаётся открытым вопрос о назначении «украшений трона». Ни у одного известного памятника или изображения этого времени не наблюдается аналогичных декоративных деталей. В свое время Б.В. Фармаковский высказал предположение, что эти предметы использовались как части поясного набора [Фармаковский, 1920, л. 30]. Позднее возобладало мнение, что они служили украшениями ручек трона [Граков, 1971, с. 116-117; Ильинская, Тереножкин, 1983, с. 60]. Обе точки зрения представляются малоправдоподобными из-за размеров (длина 19,2 см) и относительной хрупкости вещей. Далеко выступающие по бокам предметов тонкостенные скульптурные выступы указывают на то, что «украшения» обрамляли какой-то неподвижный объект. При осмотре нижних плоскостей привлекают внимание вогнутость тыльных сторон цилиндров и нижних частей львиных голов, уплощённость плодов, орнаментация нижних челюстей баранов и 4 прямоугольных отверстия. Всё это наводит на мысль, что предметы крепились на платформу, внешне напоминавшую букву «Н». Платформа состояла из двух полукруглых в сечении брусков (длина ок. 12 см, ширина ок. 5 см) с вертикальными штырями и плоской соединительной планкой (ширина ок. 2-8 см). Такая конструкция вполне могла соответствовать подголовнику. Но в Ассирии их не использовали. К тому же в случае размещения «украшений» близ пола представляется странной орнаментация нижних челюстей баранов, которые не были бы видны. Скорее всего, предметы располагались на высоте полутора метров от поверхности пола (из расчёта среднего роста человека) и служили декоративным оформлением основания небольшой статуи или стержня, удерживавшего светильник 2. [24]
Попав в кочевническую среду, «украшения трона» использовались новыми владельцами в каком-то ином качестве, поскольку при их обнаружении никаких других частей предмета не было найдено. Это подтверждает и следующее наблюдение. На тыльных сторонах «украшений» прослеживаются знаки [Галанина, 1991, с. 16; 1997, с. 227, табл. 43], представляющие собой чёрточки, углы, косые кресты, окружности и стреловидную фигуру. Традиция нанесения на нерабочие поверхности надписей отдельных букв и знаков была достаточно широко распространена в древнем мире [Mallowan, 1966, N52, 82, 579-581; Kossack, 1987, Abb. 5]. Однако, судя по небрежности исполнения знаков на келермесских вещах (знаки неловко процарапаны, часто линии проведены несколько раз по одному месту), они
(65/66)
не были выполнены торевтом в процессе изготовления предметов, а являются творчеством человека, не отличавшегося профессиональными навыками гравёра. Очевидно, знаки появились уже после снятия «украшений» с платформы. Возможно, их нанёс кочевник, которому достались вещи в качестве трофея.
Присутствие знаков на «украшениях трона» не является уникальным событием для скифского мира. Так, целые надписи представлены на костяном псалии из Приуралья [Чежина, 1989, с. 261-264] и серебряном с золотыми накладками диске из Зивие [Ghirshman, 1950, р. 186-188; Godard, 1951, р. 242-245]. Отдельные знаки встречены на бронзовых и костяных наконечниках стрел [Исмагилов, 1988, рис. 5-7; Алексеев, 1992, с. 86; Кочеев, 1994, с. 57-59], деревянных деталях конской упряжи [Полторацкая, 1962, с. 76-90].
^ Серебряный с золочением наконечник из Келермеса (кат. 34), по-видимому ошибочно, был скреплён реставраторами с фрагментами роговидного кубка (кат. 40). Если в будущем подтвердится принадлежность наконечника посуде, тогда можно будет предположить, что он, скорее всего, служил деталью другого сосуда (кат. 39). Предмет смоделирован в виде головы льва, трактованной в ином ключе, чем «украшения трона» и парные наконечники. У хищника широко раскрыта пасть. Высунутый язык охватывает нижнюю губу. Уши даны в виде четвертей сферы с рифлёным пояском. Пряди гривы имеют пламевидную форму. Остальные элементы изображения утрачены.
Как отмечала Л.К. Галанина, данный тип львиной головы восходит к хеттским памятникам [Галанина, 1991, с. 20; 1997, с. 148]. Действительно, аналогично выполнены головы зверей на каменных статуях и рельефах начала IX в. до н.э. из Зенджирли [Das Vorderasiatische Museum, 1992, N163] и Кархемиша [Winter, 1989, fig. 10, 11; Van Loon, 1990, pl. XI]. И хотя на двух рельефах из Кархемиша у львов показаны уши другой формы, они всё же обрамлены рубчатым пояском [Winter, 1989, fig. 10, 11]. Достаточно близкие подобия дают памятники комплекса Зивие, передающие тот же тип, но трактованный в ином стилистическом ключе [Ghirshman, 1964, ill. 139, 145, 392]. Продолжение традиции демонстрирует костяная голова льва начала VI в. до н.э. из Герайона на о. Самос [Freyer-Schauenburg, 1966, Taf. 22]. Именно она является довольно точной параллелью келермесскому наконечнику. Отличием являются уши у льва, которые уже утратили каноничную сфероидную форму.
В связи с анализом вещи из Келермеса интерес представляет костяной наконечник в виде львиной головы, происходящий из кургана 2 в уроч. Дарьевка Черкасской обл. Он стилистически близок келермесской находке [Ильинская, 1975, с. 53, табл. XXXIV, 1]. Вместе с тем, предмет из Дарьевки подобен «украшениям трона» и золотым наконечникам (совпадает точечная орнаментация складок на морде, показаны «восточные шишки» на лбу), но сопоставим и с «самосской» головой (аналогичная форма глаз и ушей). По погребальному инвентарю курган датируется концом VII в. до н.э. — рубежом VII-VI вв. до н.э. [Ильинская, Тереножкин, 1983, с. 234].
Исходя из проведённого разбора серебряный наконечник из Келермеса можно отнести к малоазийским или северосирийским изделиям VIII-VII вв. до н.э.
^ Посуда. Двучастный сосуд найден в Келермесском кургане (кат. 35-36). Он состоит из двух чаш, причём одна из них вставлялась внутрь другой. Наружная чаша имеет округлое тулово, резко переходящее в прямое горло. Она изготовлена из более толстого золотого листа и выглядит масс-
(66/67)
сивнее второй. Венчик чаши украшен двумя углублёнными линиями, а стенки покрыты выпуклым орнаментом в виде сетки с ромбическими ячеями, ограниченной сверху и снизу поясом из капель. Между каплями верхнего ряда выгравированы двойные уголки.
Внутренняя чаша полусферической формы. Её край отогнут наружу и прижат к стенкам. Тулово чаши украшено тремя поясами из рельефных фигур зверей и птиц. На дне её помещена розетка. Все фигуры выпуклой стороной обращены внутрь сосуда.
Чаши сразу после обнаружения были разъединены и хранились отдельно. Всё же не вызывает сомнений то, что оба предмета составляли единый сосуд. На это в своё время указывал Д.Г. Шульц [Архив ИИМК, ф. 1, д. 9/1904, л. 96], хотя впоследствии и отказавшийся от своих слов [Манцевич, 1961а, с. 331]. Но ряд фактов заставляет принять во внимание его первое утверждение. Во-первых, полусферическая чаша плотно входит в другую. Во-вторых, обе они аналогично сплющены с боков. И, в-третьих, орнамент на чашах по направлению рельефа был рассчитан на восприятие с разных сторон: геометрический — снаружи, зооморфный — изнутри (розетка иначе вообще не видна) [Галанина, 1991, с. 20; 1997, с. 146, 148] 1. [25]
Очевидно, внутренняя чаша закреплялась в горловине внешней с помощью отогнутого края, а углублённые линии, обрамляющие устья, могли усиливать надёжность крепления. В этом случае тонкостенная чаша находилась внутри толстостенной, не касаясь её стенок и дна, и оказывалась надежно защищённой.
Относительно техники орнаментации некогда было высказано предположение, что фигуры животных выполнены посредством оттиска по матрицам [Черников, 1965, с. 127; Артамонов, 1966, с. 21]. Однако благодаря анализу, проведённому Р.С. Минасяном, можно утверждать, что декорировка всего сосуда производилась с помощью чеканки и металлопластики с подправкой гравировкой.
В своё время А.П. Манцевич сопоставила наружную чашу (рис. 65) с золотым сосудом из Хамадана, на котором нанесено имя Ксеркса I (485-465 до н.э.) [Vanden Berghe, 1959, pl. 136с; Манцевич, 1961, с. 331). Оба предмета имеют внешнее сходство, но персидская чаша отличается от келермесской пропорциями, отогнутым венчиком, более сложным, «рафинированным» орнаментом, что очевидно указывает на иное время изготовления келермесской чаши.
Близки келермесской чаше и ассирийские металлические сосуды с воронковидным горлом. По мнению некоторых исследователей, именно в Ассирии был разработан орнамент в виде «сети выпуклин» [Lushey, 1939, S. 45; Amiet, 1976, p. 51]. Среди ассирийских памятников аналогией келермесскому образцу служит бронзовая чаша Ашшуртаклака IX-VIII вв. до н.э. [Lushey, 1939, Abb. 13] (рис. 66). Её рельефный узор очень похож на келермесский. Хотя имеются и отличия: у ассирийской чаши капли верхнего ряда значительно крупнее, отсутствуют двойные уголки, на дне показана розетка. Различны также пропорции и контуры сосудов. Тем не менее, чаша Ашшуртаклака убедительно доказывает влияние ассирийского искусства на орнаментацию келермесского сосуда.
(67/68)
Однако прямое устье чаши из Келермеса не соответствует ассирийскому стандарту воронковидных форм. Зато в Урарту бытовали сосуды как с воронковидным, так и с прямым горлом [Vanden Berghe, De Meyer, 1983, cat. 153, 163, 164; Merhav, 1991, fig. 2, 1-4]. По внешним очертаниям с келермесской чашей сходны бронзовый сосуд VIII-VII вв. до н.э. из Топрах-Кале и серебряная чаша с именем царя Ишпуини (ок. 825-810 до н.э.) (рис. 67), на что уже указывала Л.К. Галанина [Галанина, 1991, с. 20] 1. [26] Правда, урартские чаши украшены не сеточным орнаментом, а отходящими от дна лепестками.
Таким образом, наружная чаша из Келермеса демонстрирует смешение ассирийских (орнамент) и урартских (форма) влияний, причём большинство аналогий датируется IX-VIII вв. до н.э.
Внутренняя полусферическая чаша по форме имеет аналогии почти во всех регионах мира. Но её зооморфный орнамент специфичен. Три пояса из фигур животных обрамляют 16-лепестковую розетку (рис. 69). Верхний пояс состоит исключительно из изображений бегущих страусов 2. [27] Довольно необычна поза, в которой представлены птицы. Страусы бегут с широко распахнутыми крыльями, что в природе наблюдается крайне редко. Согласно А.Э. Брэму, это происходит только в тех случаях, когда страусы сильно напуганы [Брэм, 1911, с. 73].
Второй пояс образуют одиночные фигуры лежащих тура, безоарового козла и двух благородных оленей, а также две сцены — лев вгрызается в хребет лежащего козла и волк преследует бегущую самку безоарового козла 3. [28]
В третьем поясе показаны только лежащие звери: безоаровые козлы (две самки и самец), благородный олень и какое-то копытное животное, изображение головы которого не сохранилось 4. [29] В целом, животный мир, представленный на чаше, отражает фауну гор и равнин Передней Азии.
Характерная трактовка животных, отличающаяся сочетанием условной стилизации с натуралистическими подробностями, ранее уже связывалась исследователями с новоассирийским искусством [Фармаковский, 1920, л. 27, 31; Смирнов, 1909, с. 4; Rostovtzeff, 1922, р. 50; Манцевич, 1961, с. 338; Артамонов, 1962, с. 38 (надо: 32); Пиотровский, 1962, с. 120-121; Галанина, 1991, с. 20]. Действительно, фигуры страусов находят ближайшие аналогии в памятниках Ассирии. Это цилиндрические печати XII-VII вв. до н.э. [Perrot, Chipier, 1884, рис. на с. 566; Porada, 1948, pl. LXXXVI, 606E, CXVII, 773Е, СХХ, 759, 763; Vanden Berghe, De Meyer, 1983, cat. 222], чаша и костяная пластинка VII в. до н.э. из Нимруда [Mallowan, 1966, N61, 564]. Наиболее близки к келермесским птицам страусы с двух печатей VIII-VII вв. до н.э. [Porada, 1948, pl. CXVII, 773E; Vanden Berghe, De Meyer, 1983, cat. 222] (рис. 70, 71).
Обычно в ассирийском искусстве образ страуса композиционно сочетается с фигурой героя или бога. На келермесской же чаше фактически дано одно изображение птицы, повторённое 14 раз. Такое отступление от традиционного сюжета в Ассирии фиксируется только с конца VIII — начала VII в. до н.э. [Mallowan, 1966, N130, 172, 564; The Metropolitan Museum of Art, 1984, fig. 79].
(68/69)
У многих животных натуралистически точно переданы некоторые характерные черты: у коз — вымя, волоски хвоста и ребристый позвоночник, у козлов — борода, у всех без исключения травоядных — раздвоенность копыт. Условная стилизация проявилась в идентичном изображении фигур копытных, принадлежащих к разным видам (различно показаны только головы), в отказе от изображения шкур у травоядных животных (лишь «кабан» имеет шкуру), в орнаментации рогов зверей поперечной штриховкой и трактовке роговых отростков оленей в виде спиралей.
Исследователи уже приводили убедительные доводы в пользу сходства фигур на чаше с рельефами дворца Ашшурбанипала в Ниневии [Манцевич, 1961, с. 338; Пиотровский, 1962, с. 120-121; Галанина, 1991, с. 20; 1997, с. 146]. Безусловно, сходство очень близкое. Но ниневийские рельефы — всего лишь одно из многих отражений новоассирийских изобразительных канонов. Большинство зооморфных образов этого направления сложилось гораздо раньше и существовало длительное время без значительных изменений. Например, изображения козлов на чаше (рис. 72) имеют близкие подобия не только на рельефе середины VII в. до н.э. из Ниневии [Barnett, 1975, pl. 166], но и на рельефе конца VIII в. до н.э. из Хорсабада [Champdor, 1964, N183] (рис. 73). Тур с чаши напоминает фигуры на дворцовом рельефе, расписных глазурованных кирпичах и костяных панелях IX в. до н.э. из Нимруда [Mallowan, 1966, N213, 214, 221, 373; Barnett, 1975, pl. 4]. Правда, у «келермесского» тура мускулатура более натуралистично проработана, к тому же он имеет ещё и бородку.
На первый взгляд фигура льва (рис. 74) аналогична хищникам ниневийских рельефов (рис. 75), однако при внимательном рассмотрении видны отличия в деталях. «Бакенбарды» льва на чаше орнаментированы вертикальной полосой из уголков, направленных вершиной к уху 1, [30] в то время как у зверей на рельефах показаны пряди волос, расположенные или уголками вершиной вниз, или в виде косой штриховки. У «келермесского» хищника локтевой сустав передней лапы совершенно голый, звери же с рельефов, как правило, имеют в этом месте пучок волос 2. [31] Кисточка хвоста на чаше выполнена как простой неорнаментированный выпуклый овал. У ниневийских же львов они тщательно проработаны.
Однако проведённое сопоставление памятников не позволяет уверенно определить, являются ли отмеченные отличия следствием хронологического разрыва изображений, или же это одновременные стилистические варианты единой художественной традиции.
Отступление от ассирийской изобразительной манеры времен Ашшурбанипала видно и на примере фигуры волка (рис. 76). Этот мотив не был характерен для бестиария Ассирии. Скорее всего, его появление на чаше связано с позднехеттским (или каким-то другим) влиянием. И несмотря на то что волк представлен в той же позе, что и некоторые собаки на рельефах из Ниневии [Barnett, 1975, pl. 99, 132], проработка их тел различна (рис. 77). Келермесского волка, в первую очередь, отличают трактовка «гривы», «бакенбардов» и наличие длинного голого хвоста. По этим характерным чертам его можно сопоставить со львом на той же чаше, а также (по «гриве») с кабанами и зайцем (?) на секире из Келермеса (кат. 5). Стилизация шерсти на брюхе зверя в виде линии из уголков напоминает стилистический элемент, использованный на фигурах львов и барса/пантеры на серебряном келермесском зеркале (кат. 46).
(69/70)
Что касается изображения оленя (рис. 78), то он очень близок фигурам на рельефе VII в. до н.э. из Ниневии [Barnett, 1975, pl. 126], костяной пластине из Зивие [Ghirshman, 1979, pl. XII, 3], а также на костяной пластине IX в. до н.э. из крепости Салманасара III [Mallowan, 1966, N568] (рис. 79, 80). Существенным отличием служит то, что «ассирийские» олени не имеют рогов с отростками-спиралями, закручивающимися к голове. Аналогии такой трактовке рогов можно видеть на фигурах золотого пояса из Зивие [Ghirshman, 1964, ill. 143] и ножнах из Литого кургана (кат. 4). Сходным образом выполнены роговые отростки у оленя на золотом наконечнике из Келермеса (кат. 41). Близким соответствием является и бронзовый фигурный псалий из Луристана, датированный А. Годаром VII в. до н.э. [Godard, 1938, р. 237-238] (рис. 81) 1. [32] По мнению ряда исследователей, этот псалий был изготовлен под явным влиянием скифского звериного стиля [Членова, 1984, с. 3; Курочкин, 1987, с. 97; 1989, с. 105-106; Погребова, Раевский, 1992, с. 234, примеч. 25]. По-видимому, он и два других предмета, упомянутых выше, демонстрируют попытку копирования ближневосточными мастерами скифского образа. Одним из адаптированных вариантов, как указывалось при анализе келермесской секиры, явились S-видные рога оленей, другим же (очевидно, не получившим широкого распространения) стала спиралевидная модель. Таким образом, «нетипичные» рога оленей на чаше вполне можно связать с влиянием искусства древних кочевников 2. [33]
Относительно шестнадцатилепестковой розетки, расположенной на дне чаши, можно отметить, что аналогичные «солярные» символы были очень широко представлены на Ближнем Востоке. Розетки келермесского типа имеются на рельефах и золотых вещах из Нимруда и Ниневии [Barnett, 1975, pl. 4, 37, 128; Jahrbuch, 1999, Abb. 31, 46], на урартских бронзовых изделиях [Merhav, Seidl, 1991, N12в, 21, 22, 54] IX-VII вв. до н.э. По количеству лепестков келермесский растительный мотив сближается также с розетками на костяных пластинах из Зивие [Ghirshman, 1979, pl. XII, 2, 3, 8; XVII, 1] и серебряном зеркале из Келермеса (кат. 46).
Суммируя полученные выводы, можно сделать вывод, что келермесский сосуд демонстрирует слияние двух направлений — урартского (форма) и ассирийского (орнаменты) (рис. 82). Манера же изображения оленя указывает на ориентацию мастера на скифского заказчика. Нерешённым остается вопрос хронологического несоответствия составных частей предмета: внешняя чаша датируется IX-VIII вв. до н.э., внутренняя — началом — второй третью VII в. до н.э. Видимо, существуют два решения. Первое предполагает, что ассирийский мастер, изготавливая на заказ составной сосуд и стремясь надёжно скрепить обе чаши, вынужден был прибегнуть к нетипичной форме устья, скопировав образцы посуды соседней культуры. Второе (более правдоподобное) основывается на наблюдении, что внешняя чаша является абсолютно полноценной вещью, а внутренняя по причине своей хрупкости требует жесткого футляра. Поэтому вполне вероятно, что ассирийский торевт изготавливал только внутреннюю чашу, а для кожуха использовал старую урартскую, выполненную под ассирийским влиянием [Кисель, 1999, с. 287].
(70/71)
Согласно А.Д. Мачинской и А.Ю. Алексееву (устные сообщения), келермесский сосуд, возможно, использовался при употреблении ритуальных горячих напитков. Это предположение вполне правдоподобно, поскольку питьё подогретых алкогольных или наркотических напитков известно у многих древних и современных народов [Ионова, 1960, с. 140; Вяткина, 1960, с. 204; Этнография питания, 1981, с. 129, 155, 164, 175-176; Похищение быка, 1985, с. 28; Плавт, 1987, с. 476, 666; Похлёбкин, 1991, с. 30, 270-271; Зеленин, 1991, с. 155-156; Бодлер, Готье, 1997, с. 79-80].
^ Бронзовое блюдо из Люботинского кургана (кат. 37). Сосуд дошёл до наших дней в повреждённом состоянии. Он имеет лакуны на дне и бортах. Ручка утрачена, поэтому не представляется возможным определить, какой она была формы. Можно лишь отметить, что ручка размещалась близ края борта и крепилась к блюду двумя небольшими кольцами. Каким образом соединялись кольца с сосудом, из публикаций неясно. В одной статье утверждается, что они были отлиты «одновременно с корпусом блюда» [Бандуровский, Буйнов, 2000, с. 66]. Это вызывает недоумение, поскольку сосуд, скорее всего, был изготовлен выколоткой. В другой работе указывается, что кольца удерживаются на стенке «при помощи заклёпок» [Бандуровский, Буйнов, Дегтярь, 1998, с. 148], что выглядит правдоподобным, судя по опубликованному рисунку [Бандуровский, Буйнов, Дегтярь, 1998, рис. 4, 2].
Сам тип низкого уплощённого сосуда был широко распространён во многих ближневосточных культурах (например, клад типологически сходных чаш, найденных в Кармир-Блуре [Пиотровский, 1970, кат. 62]). Более редкой, но далеко не уникальной, деталью является боковая ручка на шарнире. Интересной параллелью выступают бронзовые блюда с дуговидными и прямоугольными ручками (правда, без колец) из курганов близ с. Нартан, которые «не характерны для кобанской культуры», но имеют местный, кавказский орнамент [Батчаев, 1985, с. 47, табл. 39, 42; 48, 38-39].
На дне сосуда прочеканен [Бандуровский, Буйнов, Дегтярь, 1998, с. 148] или выгравирован [Бандуровский, Черненко, 1999, с. 27; Бандуровский, Буйнов, 2000, с. 66] сложный растительно-геометрический орнамент, украшенный золотой инкрустацией [Бандуровский, Буйнов, 2000, с. 67]. Орнамент представляет собой восьмилепестковую розетку с сердцевиной, выполненной в виде малой розетки. Этот узор окружен поясами из окружностей, заштрихованных треугольников и стилизованных цветов — «лотосов».
Исследователи отметили, что использование при декорировке предмета золотых вставок находит подобие на диске из Зивие [Бандуровский, Черненко, 1999, с. 27]. Также в качестве параллелей можно упомянуть келермесские зеркало и ритон (кат. 39, 46). Впрочем, основным материалом перечисленных вещей является серебро, а не бронза, как у блюда.
Поиски прототипа орнамента в научной среде велись по двум направлениям. Если Е.В. Черненко усмотрел в розетке повторение изображений на рельефах Персеполя VI-V вв. до н.э. [Бандуровский, Черненко, 1999, с. 27], то А.В. Бандуровский, Ю.В. Буйнов и А.К. Дегтярь сравнили её с растительным декором внутренней чаши келермесского сосуда (кат. 35-36) и отнесли их к ассирийской художественной школе второй половины VII в. до н.э. [Бандуровский, Буйнов, Дегтярь, 1998, с. 150; Бандуровский, Буйнов, 2000, с. 67]. Такой разброс во мнениях требует дополнительной проверки.
Без сомнения, оформление блюда имеет ассирийские корни. Сложносоставные розетки известны в Ассирии с IX в. до н.э. [Hrouda, 1965, Taf. 9, 20-24; 23, 24]. Лотосовидным узором украшены настенная роспись дворца Саргона II (721-705 до н.э.) в Хорсабаде [Hrouda, 1965, Taf. 40, 2] и
(71/72)
одежда Ашшурбанипала (669-631 до н.э.) на рельефах в Ниневии [Barnett, 1975, pl. 103-105, 116-118]. Правда, распустившиеся цветы на росписи перемежаются пальметками, а на рельефах — бутонами. К тому же раздваивающиеся стебли расходятся не волнами, как на сосуде, а правильными дугами. Зато точные соответствия стеблям обнаруживаются на рельефе из Нимруда времён Ашшурнасирпала (883-859 до н.э.) в виде ремешков или верёвок от кистей нагрудника коня [Barnett, 1975, pl. 32]. Наиболее близкую параллель орнаменту люботинского блюда выявил А.Ю. Алексеев на ассирийском рельефе последней трети VIII в. до н.э. [Hrouda, 1965, Taf. 23, 28] (устное сообщение). На представленном на рельефе щите изображена розетка с двойной сердцевиной. Она окружена поясами из ломаных линий (треугольников) и «лотосов», оконтуренных окружностями.
Таким образом, блюдо из Люботинского кургана можно отнести к продукции ассирийских мастеров и датировать последней третью VIII — началом VII в. до н.э.
^ Бронзовая чаша из Новозаведённого кургана (кат. 38). Этот низкий сосуд с воронковидным устьем украшен растительным и геометрическим узором. По венчику прочеканены параллельные линии, а на дне — шестнадцатилепестковая розетка, обрамлённая пятью концентрическими окружностями. Сам принцип орнаментации дна чаши сходен с люботинским блюдом (кат. 37). На обоих предметах изображена розетка, находящаяся в центре нескольких окружностей. Усложнение рисунка на блюде дополнительными декоративными поясами может быть объяснено более высоким профессиональным уровнем его автора. На сравнительно посредственные ремесленные навыки мастера, изготовившего чашу, уже указывалось исследователями. Отмечалось небрежное исполнение декора, а также неисправленный производственный брак — трещина возле устья [Кореняко, 2001, с. 59]. Детальный анализ предмета был проведен В.А. Кореняко. Он нашёл близкие подобия сосуду в древностях Ассирии (ниневийские рельефы, сосуд из Зенджирли) и предположил, что вещь была изготовлена в ассирийской мастерской в VII в. до н.э. [Кореняко, 2001, с. 62]. Определение ассирийского происхождения чаши безусловно верно. Датировка же представляется произвольно зауженной. К такому заключению приводят следующие соображения. Данный тип сосудов был популярен в ассирийской культуре не только в VII, но в VIII, а также в IX вв. до н.э. То же относится и к данному растительному орнаменту, который часто встречается на разновременных предметах. Среди находок из скифских курганов аналогию ему можно обнаружить на сосуде из Келермеса (кат. 35-36). У розеток совпадает даже количество лепестков (правда, келермесский узор не обрамлён окружностями).
В своём исследовании В.А. Кореняко упомянул бронзовую чашу из Ашшура IX-VIII вв. до н.э. [Lushey, 1939, Abb. 30] (рис. 66), но не придал ей особого значения. Однако сопоставление её с сосудом из Новозаведённого кургана выявляет их несомненное сходство. Оно проявляется не только в общих очертаниях, но и в деталях орнаментации вещей. Конечно, существенным отличием служит присутствие рельефных лепестков на предмете из Ашшура, но это в данном случае не играет важной роли, поскольку оба сосуда восходят к одному и тому же типу. В качестве параллелей следует упомянуть ближневосточную бронзовую чашу конца VIII — VII в. до н.э., хранящуюся в Метрополитен-музее в Нью-Йорке [Muscarella, 1988, N501], и золотой сосуд VIII в. до н.э. из Нимруда [Jahrbuch, 1999, Abb. 23, 31]. Они близки по форме чаше из Новозаведённого кургана, хотя на тулове нимрудского сосуда, как и на предмете из Ашшура, присутствуют рельефные лепестки. Венчики обеих чаш декорированы
(72/73)
продольными линиями, а на донцах имеются 16-лепестковые розетки, обрамлённые окружностями, правда, у вещи из Метрополитен-музея вместо одного пояса по 5 окружностей представлено два.
До появления каких-нибудь новых уточняющих данных чашу из Новозаведённого кургана следует датировать широко — IX-VII вв. до н.э.
Немаловажной деталью рассмотренных сосудов из Люботинского и Новозаведённого курганов является наличие приспособлений для подвешивания (у блюда — кольца на борту, у чаши — два отверстия близ устья). По-видимому, для скифов это имело определённую ценность. Согласно сообщению Геродота, легендарный прародитель скифов Геракл носил на поясе золотую фиалу, что служило примером для подражания самим скифам [Herod., IV, 10 — Доватур, Каллистов, Шишова, 1982, с. 103]. Не исключено, что рассмотренные сосуды, попав в кочевническую среду, приобрели сакральное значение, символизируя чашу мифического первопредка.
^ Фрагментированный серебряный ритон с золотыми накладками из Келермеса (кат. 39). Сосуд плохо сохранился, и имеющиеся в настоящее время две части — отогнутый венчик и около 2/3 тулова — собраны реставраторами из массы обломков. Ритон имел вид плавно изогнутого рога и, повидимому, весь был покрыт золотыми пластинами с изображениями. В настоящий момент на венчике просматриваются только овы — лепестки розетки с острыми язычками между ними, а на тулове — несколько сцен с зоо-, орнито- и антропоморфными персонажами, разделёнными рубчатыми полосами. Верхняя сцена представлена пятью частично сохранившимися фигурами птиц (вероятно журавлей 1 [34]), запечатлёнными на земле в момент активного действия (поединок? брачные танцы?), двумя безоаровыми козлами, идущими бок о бок, возможно в упряжке, и фигурой человека (уцелела одна нога). По предположению М.И. Максимовой, посвятившей отдельную статью келермесскому ритону, здесь изображена мифологическая картина, где герой или бог восходит на колесницу, запряжённую дикими животными [Максимова, 1956, с. 234].
Ниже располагается ромбовидный медальон, широкая часть которого находится на выгнутой части ритона. В узкой части медальона расположен ромб с двумя овалами по краям и отходящими от них стилизованными цветами растения (лотос — по М.И. Максимовой [Максимова, 1956, с. 223]). Широкую часть заполняют крупные изображения: крылатая богиня с дополнительными крыльями на пятках в позе «коленопреклонённого бега» держит за лапы двух грифонов.
Последняя композиция вписана в широкую полосу, равномерно опоясывающую сосуд. На его вогнутой части помещена орнаментальная разделительная колонка, оба конца которой завершаются пальметками. Под одной пальметкой находится кентавр, несущий на плече дерево с подвешенным за ноги оленем, под другой — всадник в облегающей одежде на скачущей лошади. Человек сидит без седла на чепраке или попоне. Сзади него просматривается горит или колчан. Хвост лошади перехвачен ремнём. Между всадником и кентавром проходит двухрядная плетёнка. Оба персонажа устремлены в одну сторону — к окончанию ритона.
Колонка, как можно предположить по сохранившимся частям, разделяет две сцены битвы людей со львами. За всадником припал к рубчатой полосе издыхающий (?) лев. Чуть в стороне от него, показаны сцепившиеся бородатый человек и лев (изображение перевёрнуто на 180°). На рисунке, восстановленном реставратором, в левой руке героя изображен небольшой
(73/74)
двузубый предмет (гарда меча?), втыкающийся в брюхо льва. Однако вызывает сомнение, что фрагмент с этой рукой был установлен правильно. Расположение пальцев позволяет предположить, что она правая, и тогда у человека оказываются две правые руки. Даже в том случае, если рука всё-таки левая, при нынешней реконструкции у персонажа неестественно укорочено левое плечо, отсутствует колено, а у льва, с которым он борется, удивительно узкая талия. Герой бос, на нём короткое облегающее одеяние, через плечо надета портупея, удерживающая на левом боку ножны. Ножны завершаются двумя окружностями и овалом между ними (эфес меча? декоративное оформление устья ножен?). С другой стороны колонки по направлению к кентавру движется какой-то гривастый хищник, скорее всего лев (медведь — по М.И. Максимовой [Максимова, 1956, с. 223]). Рядом сохранилась часть львиного крупа с изогнутым хвостом.
Судя по неприклеенным фрагментам, имелось ещё не менее двух изображений человека и льва. У человека просматривается густой волосяной покров и какое-то одеяние с чешуйчатым орнаментом (доспехи?).
Все исследователи, занимавшиеся изучением ритона, отмечали его сходство с келермесским зеркалом (кат. 43). М.И. Максимова даже предположила, что обе вещи вышли из рук одного мастера [Максимова, 1956, с. 234-235]. Не отрицая явной близости этих памятников (использование при изготовлении одинаковых материалов — серебро, золото; применение при декорировке одних и тех же технических приёмов — металлопластика, чеканка, гравировка; включение в орнаментальные композиции аналогичных образов — крылатая богиня, волосатые «люди», грифоны, львы, безоаровые козлы; общая стилистическая окраска изображений), с таким заключением трудно согласиться. Эти предметы отличаются по многим существенным признакам. Типологически ритон имеет массу аналогий среди изделий различных культур, но в скифо-сибирском мире на раннем этапе подобных сосудов не встречается, — появление ритонов у скифов фиксируется только после переднеазиатских походов. Серебряное же зеркало повторяет форму бронзовых и серебряных зеркал с отогнутым бортиком и ручкой, расположенной в центре, бытовавших с периода архаики продолжительное время в древнекочевнической среде. Характер композиционного построения орнаментации изделий тоже различный. На ритоне изображения собраны в несколько многокомпонентных сцен, на зеркале же антропо- и зооморфные персонажи составляют восемь отдельных сюжетов, вписанных в сектора. Стилистика орнаментации ритона отличается динамизмом, экспрессией, показан второй план. На зеркале, наоборот, представлены статичные, монументальные, тесно сгруппированные фигуры, а многоплановость отсутствует (второй план дан в единственном случае — барс на фоне дерева). Среди художественных образов, выполненных на ритоне, нет ни одного, чётко доказывающего влияние скифского звериного стиля, на зеркале таких образов несколько — пантера, кабан, баран. Кроме того, изобразительная манера декорировки ритона указывает на доминирование греческого искусства (конкретнее — ионийского), на зеркале же наблюдается сильная зависимость от древневосточных традиций. Антропоморфные персонажи предметов также несколько отличаются. Если на зеркале это исключительно мифические существа, то на ритоне имеются и реальные (по облику) люди — всадник, боец со львом. При сравнении даже сходных фигур можно заметить различия в трактовках: на ритоне у богини есть дополнительные крылья на пятках, её одеяние украшено, помимо меандров, ещё и каймой с поперечными штрихами и косыми крестами, все антропоморфные персонажи ритона (за исключением кентавра) имеют одеяния, у львов на ритоне показан подшёрсток на
(7475)
брюхе в виде пламевидных завитков, на зеркале же он передан «ёлочным» орнаментом, у безоаровых козлов на ритоне рог менее загнут и намечена гривка, у птиц на ритоне даны миндалевидные глаза, в то время как на зеркале — круглые.
Перечисленные отличия наглядно демонстрируют работу двух разных мастеров. Но, несмотря на это, оба предмета, очевидно, входили в единый набор, о чём можно судить по распространению у индоиранских народов обычая использовать зеркала и сосуды в брачных и погребальных церемониях, а также по ряду изображений на некоторых памятниках скифской культуры (золотые бляшки из Куль-Обы, Первого Мордвиновского кургана, пластина из Сахновского кургана) [Бессонова, 1983, с. 105-107].
Как некогда было установлено С.А. Жебелёвым и Б.В. Фармаковским, а затем подтверждено М.И. Максимовой, создатель ритона, вероятно, происходивший из Северной Ионии, следовал в своем творчестве традициям восточногреческого искусства [Жебелёв, 1905, л. 57; Фармаковский, 1917, л. 3; Максимова, 1956, с. 234-235]. Правда, относительно датировки сосуда взгляды учёных разошлись. Б.В. Фармаковский и М.И. Максимова относили его к первой трети VI в. до н.э., а С.А. Жебелёв — к концу VII в. до н.э. Различно трактовали они и конкретные образы. М.И. Максимова, анализируя фриз с птицами, в подборе аналогий опиралась на уверенность, что перед ней цапли, хотя в приведённых ею примерах (были названы в основном греческие памятники искусства) фигурируют не только цапли, но и страусы с золотой пластины из Литого кургана (кат. 19) [Максимова, 1956, с. 232]. С.А. Жебелёв же идентифицировал птиц на ритоне как журавлей и в качестве параллели ссылался на изображения на поддоне «вазы Франсуа» (кратера Клития и Эрготима) второй четверти VI в. до н.э. [Жебелёв, 1905, л. 57]. Действительно, несмотря на иную манеру исполнения, на «вазе» представлены те же пернатые. Более того, позы келермесских птиц отчасти напоминают расположение журавлей «вазы», которые запечатлены в момент сражения с пигмеями. Пигмеи показаны как пешими, так и верхом на таких же козлах, что представлены на ритоне. Сходство оформления двух предметов обнаруживается даже в орнаментальной окантовке поддона «вазы» и устья ритона рядами ов. Если верно предположение М.И. Максимовой, что на фризе ритона рядом с птицами была изображена колесница с запряжёнными козлами [Максимова, 1956, с. 233-234], то такое транспортное средство вполне бы вписалось в сцену мифической битвы. Однако тогда серьёзным противоречием разыгравшейся драме выглядели бы сами безоаровые козлы, спокойно идущие с опущенной головой. И всё же присутствие на ритоне мотива, отражающего противоборство людей и птиц, не кажется невозможным. Впоследствии он мог преобразоваться в греческом искусстве VI-V вв. до н.э. в сцену сражения пигмеев с журавлями.
Крылатая богиня, занимающая центральное место на ритоне, — несомненное подобие антропоморфного персонажа с зеркала. Правда, создаётся впечатление, что она является более разработанным вариантом. Если фигура богини на зеркале несколько напоминает колонну (связь с дедалическим стилем Греции и художественными традициями Ассирии и Сирии), то изображение на ритоне имеет более отчётливые женские формы и расположено более свободно — в позе «коленопреклонённого бега».
М.И. Максимова, идентифицировав богиню как Кибелу, привела многочисленные аналогии из круга восточногреческих памятников [Максимова, 1956, с. 231-232]. Но Великая Богиня, Владычица зверей, одним из воплощений которой была Кибела, крайне редко изображалась с крыльями на пятках в «коленопреклонённой» позе и с грифонами в руках [Бес-
(75/76)
сонова, 1983, с. 86]. Представленная на ритоне фигура более соответствует образу Медузы, как предполагал Б.В. Фармаковский [Фармаковский, 1917, л. 5]. То, что на зеркале и ритоне в принципе одинаковые изображения различаются по ряду значимых признаков, С.С. Бессонова попыталась объяснить дуалистической идеей, заключённой в предметах: на первой вещи дана мужская, а на второй — женская ипостась одного и того же божества. Однако анализ сохранившихся деталей фигуры на ритоне не позволяет предположить даже намека на андрогинность божества. Между тем, С.С. Бессонова абсолютно права, считая, что, кроме параллелей в античном искусстве, келермесская фигура имеет близкие аналогии на памятниках Ближнего Востока [Бессонова, 1983, с. 86]. В качестве одного из примеров можно упомянуть бронзовый конский налобник X-IX вв. до н.э. из Северной Сирии, на котором бескрылая богиня в распахнутом платье представлена в «коленопреклонённой» позе. Она попирает двух сидящих львов и держит за хвосты двух сфинксов [Winter, 1988, pl. 126а, b].
Вызывает интерес также фрагментированный крашеный рельеф около 600 г. до н.э. из Сард, на котором показана крылатая женская фигура с крылышками на пятках [Van Loon, 1990, pl. XLVb]. Платье богини распахнуто. Она держит за хвосты двух львов. Её крылья идентичны изображению на ритоне. Однако верхняя пара её крыльев отходит от груди, а не от лопаток. К тому же позу божества из Сард нельзя назвать «коленопреклонённой», а скорее шествующей. Вероятно, образ, запечатлённый на рельефе, является уже продолжением келермесского типа.
Видимо, надо признать, что ритон и зеркало из Келермеса относятся к периоду заимствования греческим миром древневосточных божеств, каноничные образы которых подверглись переработке и окончательно оформились к VI в. до н.э., о чём свидетельствуют многочисленные античные памятники [Максимова, 1956, с. 231, примеч. 2, 3].
Грифоны, которых держит богиня на ритоне, аналогичны чудовищам на зеркале, а также сходны с протомой на диадеме из Келермеса (кат. 17). Выше уже указывалось на несомненное родство этого типа с восточногреческим грифоном, но отмечались и их существенные различия. Например, у келермесских грифонов менее вытянутые пропорции тела, большая округлость головы, значительно крупнее глаза, резче изгиб языка и абрис крыльев — не плавно изогнутая линия, а ряд дуг, обрамляющих каждое перо. Судя по архаичности характерных черт келермесского типа, он появился не позднее середины VII в. до н.э.
Кентавр, расположенный под женской фигурой, был определён М.И. Максимовой как Хирон — один из интереснейших персонажей греческой мифологии [Максимова, 1956, с. 227]. Согласно мифологическим сведениям, он был сыном Кроноса и океаниды Филиры и отличался от других кентавров мудростью и благожелательностью [Тахо-Годи, 1992, с. 593]. Античные мастера обычно изображали его в виде человеко-коня, облачённого в богатое одеяние, тщательно причёсанного и с аккуратно подстриженной бородой. М.И. Максимова стилистически и хронологически поместила образ на ритоне между двумя росписями греческих сосудов — амфоры середины VII в. до н.э. и «вазы Франсуа» второй четверти VI в. до н.э. [Максимова, 1956, с. 228]. Однако келермесский кентавр, хотя и аккуратно причёсан и имеет ухоженную бороду, абсолютно обнажён, что не характерно для Хирона. Кроме того, в архаическом ионийском искусстве этот образ, по-видимому, не был популярен [Максимова, 1956, с. 228-229]. Скорее всего, на ритоне представлен не конкретный кентавр, а некий обобщённый персонаж, как и предполагали в свое время С.А. Жебелёв и Б.В. Фармаковский. С.А. Жебелёв особо отмечал, что по своему
(76/77)
типу человеко-конь на ритоне сходен с «волосатыми» героями на зеркале, борющимися с грифоном [Жебелёв, 1905, л. 51].
Кентавр несёт на стволе лиственного дерева добычу — благородного оленя. По мнению С.А. Жебелёва, образ кентавра — охотника был заимствован греческим искусством с памятников Ближнего Востока и на ритоне дан уже в переработанном виде. В частности, это подтверждается тем, что дерево покрыто листьями, чего обычно не наблюдается на ближневосточном прототипе, но характерно для ионийских изображений [Жебелёв, 1905, л. 52-53]. То же мифическое существо, выполненное в близкой изобразительной манере, можно наблюдать на золотых подвесках 630-620-х гг. до н.э. с о. Родос [Mer Egée. Grèce des Iles, 1979, N93, 94]. Однако причёски «родосских» кентавров демонстрируют египетско-финикийское влияние. В этот же круг памятников входит и крылатый конь с бронзовой фригийской (?) пластины конца VII — начала VI в. до н.э. с о. Самос [Mer Egée. Grèce des Iles, 1979, N118]. Трактовка крупа, задних ног и хвоста аналогична трактовка лошадиной части тела кентавра на ритоне.
Отличительной особенностью келермесского изображения кентавра является то, что оно представляет фигуру человека, смыкающуюся с лошадиным крупом. Именно таким образом это фантастическое существо изображалось в античном искусстве периода архаики [Фармаковский, 1921, с. 197]. Позднее греческие мастера стали показывать человеческое тело только до пояса. В качестве аналогии, кроме уже приводившихся примеров, можно упомянуть изображения на амфоре VII в. до н.э. из Беотии, бронзовой пластине второй половины VII в. до н.э. из Олимпии, каменном саркофаге конца VII — начала VI в. до н.э. из Тарквиний, колеснице около 550 г. до н.э. из Монтелеоне, бронзовой статуэтке VI в. до н.э. из Афин [Radet, 1909, F. 24; Колпинский, 1970, ил. 90, 146а; Колпинский, Бритова, 1982, ил. 17г, 18а]. Как представлялось С.А. Жебелёву, образ, показанный на ритоне, занимает промежуточное положение между кентаврами с родосских подвесок и олимпийской пластины [Жебелёв, 1905, л. 54]. Отличительной особенностью человеческой части келермесского кентавра служит густой волосяной покров, переданный штрихами. Такой признак имеется у персонажей, борющихся с грифоном на келермесском зеркале, «демонов» на ассирийской цилиндрической печати первой половины VIII в. до н.э. [Mallowan, 1966, N12], человекообразных существ (обезьян?) на финикийской серебряной чаше около 710-675 гг. до н.э. [Gehrig, Niemeyer, 1990, kat. 139], мифического героя (кентавра?) на фрагменте сосуда позднего протокоринфского стиля 650-640-х гг. до н.э. [Реrachora, 1962, pl. 30924].
Особый интерес представляет олень, подвешенный за ноги к стволу дерева, которое несёт кентавр. Как справедливо отмечала М.И. Максимова, сам вид добычи и манера её подвешивания сразу за четыре ноги — необычное явление для греческого искусства [Максимова, 1956, с. 229]. В настоящий момент в археологической литературе закрепилось мнение, что изображение оленя на ритоне — это результат влияния скифского звериного стиля [Максимова, 1956, с. 229; Савинов, 1987, с. 114]. В качестве аналогий приводятся фигуры копытных, запечатлённых в каноничной «позе на цыпочках». Однако у оленя, подвешенного к дереву, ноги перекрещены 1, [35] а не параллельны друг другу или сближены у копыт, как обычно бывает на скифо-сибирских образцах. Аргументом в пользу предположе-
(77/78)
ния скифского влияния на данное изображение Д.Г. Савинов считает расположение головы оленя запрокинутой назад [Савинов, 1987, с. 114]. Хотя трудно представить какое-то иное её положение у висящего вверх ногами животного. Кроме того, сам исследователь в качестве параллели привёл сцену на митаннийской печати, где именно в той же позе, что и келермесский олень, представлена лань [Савинов, 1987, рис. 2]. Примером дальнейшего развития образа служит кентавр с деревом и подвешенным к нему копытным (безрогим) на бронзовой обивке колесницы около 550 г. до н.э. из Монтелеоне [Richter, 1915, N40]. Необходимо отметить, что и стилистическая манера, в которой исполнен олень на ритоне, ничего общего не имеет с древнекочевнической традицией, наоборот, аналогии встречаются на многих греческих и древневосточных памятниках искусства. Подобно выполнены копытные на бронзовой ситуле VIII-VII вв. до н.э. из Луристана [Ghirshman, 1964, ill. 414], вотивном щите конца VIII — первой половины VII в. до н.э. с о. Крит (правда, у оленей на щите от ствола рога отходят вниз дополнительные два-три отростка) [Snodgrass, 1964, pl. 23], матрице около 650 г. до н.э. с Пелопоннеса [Higgins, 1961, pl. 15D], керамической лекане около 620 г. до н.э. с о. Делос [Mer Egée. Grèce des Iles, 1979, N62, 67], каменном фризе VI в. до н.э. из храма Поджо-Буко в Италии [Соколов, 1990, ил. 90]. Вообще представляется странной сама возможность использования скифского образа в качестве составного компонента в восточногреческом мотиве на ритоне, тогда как на зеркале скифоидные изображения являются отдельными самостоятельными сюжетами. В целом на ритоне прослеживается слияние ионийской и ближневосточной (митаннийской) традиции, но поводом к такой комбинации, возможно, послужило желание мастера быть понятным скифскому заказчику.
Фрагментированные фигуры львов, расположенные над кентавром, напоминают хищника на ойнохое 650-600-х гг. до н.э. с о. Родос [Walter, 1971, Taf. 122, 601]. Правда, «родосский» лев выглядит более схематичным: утрачены штрихованные «бакенбарды», отсутствует ряд топорщащихся волос у основания хвоста, ощетинившаяся грива на шее утрированно изображена в виде вертикальных штрихов. Большинство стилистических элементов, присущих келермесским хищникам, встречается в ассирийском искусстве X-VIII вв. до н.э. [Матье, Афанасьева, Дьяконов, Луконин, 1968, ил. 230в, 241; Barnett, 1975, pl. 32].
Лучше всего сохранился лев, припавший к земле. По мнению М.И. Максимовой, здесь представлен зверь, готовящийся к прыжку [Максимова, 1956, с. 225]. Однако у животного голова безвольно опущена, хвост поджат и пропущен между задними лапами. Скорее всего, здесь изображено издыхающее животное. В аналогичных позах трактованы умирающие львы и бык на ассирийских рельефах IX в. до н.э. [Матье, Афанасьева, Дьяконов, Луконин, 1968, ил. 234а, б; Barnett, 1975, pl. 32].
Помещённая рядом сцена — человек, сцепившийся в схватке со львом (Геракл и немейский лев — по Максимовой [Максимова, 1956, с. 226]), — является одним из наиболее распространённых сюжетов в искусстве древнего мира. У героя на боку висят ножны, что резко отличает его от антропоморфных персонажей зеркала, ни один из которых не вооружён. Облик ножен (особенно их устья — заострённый овал между двух окружностей) напоминает ножны Геракла на амфоре около 620 г. до н.э. из Афин [Колпинский, 1970, ил. 88а]. Сцена находит достаточно близкую параллель на костяной шкатулке IX в. до н.э. из Нимруда, где в сирийской художественной манере передана охота на льва [Collon, 1995, fig. 126]. На шкатулке лев и человек представлены в тех же позах, что и на ритоне (только у льва голова развёрнута анфас). Более того, их соотношение в размерах совпадает с келермесским изображением.
(78/79)
Вблизи от сцены схватки располагается фигура скачущего на лошади всадника, облачённого в облегающую одежду, орнаментированную четырьмя продольными полосами с зигзагами. На всаднике надеты пояс и, вероятно, мягкая обувь. Как указывала М.И. Максимова, это одеяние соответствует условному костюму, в который греческие художники на росписях сосудов VI-V вв. до н.э. обряжали варваров Востока, в том числе и кочевников. Считая ритон изделием, выполненным по скифскому заказу, она всё же усомнилась, что здесь мог быть изображён скиф, и предложила считать всадника амазонкой [Максимова, 1956, с. 225]. Однако А.И. Иванчик, изучивший фигуры лучников в сходной одежде на архаических аттических вазах, пришёл к заключению, что появление персонажей в таких костюмах не было обусловлено стремлением мастеров дать их этническую характеристику. Скорее всего, они хотели подчеркнуть зависимый, второстепенный по отношению к главному герою статус лучников [Иванчик, 2002, с. 55].
В связи с анализом сцены со львами следует обратить внимание на фрагмент ритона, не использованный реставраторами при реконструкции. На нём просматриваются части головы, левого плеча и груди ещё одного антропоморфа. Судя по рисунку, он был обильно покрыт волосами (ряды штрихов), имел сходную с кентавром причёску и был облачён в чешуйчатое одеяние. При внимательном осмотре ритона можно сделать вывод, что всадник и кентавр обрамляли две сцены схватки со львами. Сцены были разделены колонкой с пальметками и, должно быть, повторяли друг друга, отличаясь в деталях. В одной основным персонажем был человек, во второй — зверочеловек. Во всей композиции, безусловно, главным действующим лицом выступал кентавр, несущий добычу. Вторую роль играл мчащийся всадник. Спокойное шествие кентавра, очевидно, охраняли два героя, вступившие в единоборство со львами. Не исключено, что в схватке принимал участие и всадник, который мог поражать хищников из лука.
Растительный мотив в виде «лотосов» был сопоставлен М.И. Максимовой с подобными декоративными элементами на росписях родосско-ионийских сосудов «ориентализирующей» группы VII-VI вв. до н.э. [Максимова, 1956, с. 223-224; Mer Egée. Grèce des Iles, 1979, N78, 79, 81, 82, 104]. Однако келермесские цветы отличаются большей геометричностью форм, что находит аналогии среди «лотосов» финикийского стиля на костяных пластинах из крепости Салманасара и бронзовой чаши из Нимруда, датируемых VIII в. до н.э. [Mallowan, 1966, N390, 475, 501, 502; Falsone, 1988, pl. 154], костяных пластин из Зивие [Ghirshman, 1979, pl. X, 7] и узоров на керамическом сосуде конца VIII — начала VII в. до н.э. с о. Крит [Mer Egée. Grèce des Iles, 1979, N68].
Орнаментальная колонка с капителями на двух концах в общих чертах сопоставима с колонкой келермесского зеркала, но у последней капитель только одна, к тому же без пальметки и валика. Гораздо ближе стоит колонка ритона к стилизованному стволу «древа» на конце рукоятки келермесской секиры (кат. 5). И хотя там тоже только одна капитель и пальметка заменена древесной кроной, оба изображения восходят к сходным прототипам. С другой стороны, капители на ритоне напоминают протоионийские архитектурные детали эолийской группы, хотя те выглядят более разработанными [Пичикян, 1984, рис. 20, 1-4, 6]. М.И. Максимова, исходя из спорного тезиса о перерастании эолийской капители в ионийскую, датировала колонку на ритоне 570-ми гг. до н.э. [Максимова, 1956, с. 224]. Между тем, на настоящий момент нет достаточных оснований для выделения эолийских архитектурных элементов из протоионического ордера конца VII — первой трети VI в. до н.э. [Пичикян, 1984, с. 71, 266]. К
(79/80)
тому же образцы протоионийских капителей могли восходить и к более раннему времени [Jantzen, 1955, Taf. 62, 7]. Украшение колонки капителями с двух концов находит аналогию в росписях (правда, достаточно схематичных) алабастра 640-630-х гг. до н.э. с о. Крит [Mer Egée. Grèce des Iles, 1979, N75].
Анализ изображений на ритоне из Келермеса позволяет считать его произведением мастера, тесно связанного с ионийской художественной традицией. Принимая во внимание датировку фантастических образов (богиня, грифоны, кентавр) в сочетании с хронологией других орнаментальных фигур, предмет следует датировать второй третью — концом VII в. до н.э.
^ Второй фрагментированный ритон из Келермеса (кат. 39) тоже изготовлен из серебра и украшен золотыми накладками с геометрическим узором. Сохранилась только верхняя часть. Реставраторы с помощью проволоки скрепили её с головой льва (кат. 34), которая по стилю исполнения более подходит к вышерассмотренному ритону (кат. 38) или вообще служила декоративной деталью мебели.
Золотые накладки имеют оригинальную форму — вогнутые треугольники с небольшими полукруглыми выступами по бокам. Они орнаментированы выпуклыми точками, изогнутыми линиями и окружностями.
В свое время М.И. Максимова отметила, что форма ритона указывает на его производство в Каппадокии [Максимова, 1956, с. 215]. Позднее Л.К. Галанина поддержала мнение о ближневосточном происхождении вещи, опираясь на проведённый стилистический анализ львиной головы [Галанина, 1991, с. 20; 1997, с. 148]. Однако остатки сосуда не дают чёткого представления о его форме. Следует особо подчеркнуть, что орнамент накладок ритона не имеет точных аналогий. В качестве отдалённых параллелей можно привести сиро-финикийские узоры на бронзовой чаше из Нимруда [Falsone, 1988, pl. 150] и золотой подвеске с о. Родос [Gehrig, Niemeyer, 1990, Abb. 79], относящихся к VIII в. до н.э. На них, как и на накладках, показаны окружности, обрамлённые треугольными лучами, а также нанесены ряды точек. Если дальнейшие исследования подтвердят связь келермесского ритона с сиро-финикийскими памятниками, то его следует датировать VIII в. до н.э. или первой половиной VII в. до н.э. и, возможно, связывать с одним из ремесленных центров Палестины.
^ Фрагментированная серебряная голова телёнка из Криворожского кургана (кат. 41). Предмет неоднократно привлекал внимание исследователей. Я.И. Смирнов определил его как наконечник роговидного сосуда, созданный в «одной из малоазийских сатрапий династии Ахеменидов VII-VI вв.» до н.э. [Манцевич, 1958, с. 198, 201]. Т.Н. Книпович и Н.Д. Флиттнер предположили вавилонское происхождение криворожской находки [Манцевич, 1958, с. 201]. А.А. Иессен отказался от попыток конкретизировать место и время изготовления головы телёнка и осторожно отнёс её к изделиям месопотамской мастерской [Иессен, 1947, с. 47]. А.П. Манцевич, тщательно изучив вещь и посвятив ей отдельную статью, также уклонилась от точного определения центра производства, указав, что сходные изобразительные приёмы были известны в урартском, вавилонском, ассирийском и ахеменидском искусстве. Исследовательница предложила считать предмет декоративной деталью ближневосточного парадного табурета и датировать его периодом, ограниченным, «с одной стороны, рельефами дворца Ниневии VII-VI вв. до н.э., с другой стороны — рельефами Персеполя V в. до н.э.», но «не позднее конца VII в. до н.э.» [Манцевич, 1958, с. 201-202].
Материалы, опубликованные в последнее время, позволяют провести более точный анализ головы телёнка из Криворожья.
(80/81)
В 1993-1994 гг. близ г. Люботин Харьковской обл. местные жители разграбили ряд скифских курганов. К счастью, некоторые находки у них удалось изъять, и в частности фрагменты серебряной протомы бычка (кат. 42), голова которого копирует криворожскую. Исследователи, изучившие предмет, отметили сходство его не только с вещью из Криворожья, но и со скульптурным наконечником биметаллического (серебро, золото) роговидного кубка, найденного близ г. Мараш в Турции и относящегося приблизительно к VII в. до н.э. [Svoboda, 1956, Taf. VIA]. Это сопоставление дало возможность предположить, что протома из Люботина являлась элементом сосуда и происходила из малоазийского региона [Бандуровский, Черненко, 1999, с. 27; Бандуровский, Буйнов, Дегтярь, 1998, с. 148; Бандуровский, Буйнов, 2000, с. 66]. А.Ю. Алексеев, рассмотрев инвентарь Люботинского могильника, также подчеркнул идентичность скульптур из Люботина и Криворожья и пришёл к выводу, что обе вещи служили украшением «ритонов». При этом исследователь датировал сооружение курганов, из которых они происходили, второй половиной VII в. до н.э. [Алексеев, 1992, с. 52-54; 2000, с. 5]. Следует согласиться с А.Ю. Алексеевым относительно как даты курганов, так и назначения люботинской и криворожской находок. По всей видимости, криворожская вещь являлась частью протомы телёнка, сильно повреждённой при раскопках. Справедливость заключения об использовании обоих предметов в качестве наконечников кубков подтверждается не только сопоставлением их с марашским сосудом, но и общим обзором древневосточных древностей. Металлическими головами быков и телят на Ближнем Востоке украшались различные предметы от посуды и мебели [Манцевич, 1958, рис. 4, 2; Van-den Berghe, De Meyer, 1983, N174-179, 194; Curtis, 1988, fig. 74, 76] до боевых шлемов [Wartke, 1993, Abb. 29; Born, Hansen, 1994, Abb. 33]. Протомами же этих животных, начиная со II тыс. до н.э., обычно декорировались роговидные кубки, а впоследствии — ритоны.
Серебряная с позолотой протома бычка, украшающая сосуд из Мараша, действительно является ближайшей параллелью скульптурам из скифских курганов (насколько это можно судить по фотографии). Животное представлено в такой же позе, что и телёнок из Люботина: ноги подогнуты и прижаты к телу, голова опущена. Совпадают и мелкие детали скульптур: круглые глаза, оконтуренные выпуклыми дугообразными складками и бровями, полосы шерсти в виде рядов рубчатых прядей с завитками — локонов, уши, закрученные в вытянутую спираль. Однако у украшения марашского кубка имеются и отличия — это отделка золотом и продольное рифление на лопатках животного. Б. Свобода, подробно изучивший сосуд из Мараша, предположил, что здесь отразилось смешение влияний различных культур. Так, проработка глаз бычка указывает на ассирийское искусство, выделение мускулатуры ног — на позднехеттскую и урартскую художественные традиции. Сам тип сосуда тяготеет к малоазийским областям, а общий облик фигурного наконечника — к ассиро-урартскому региону [Svoboda, 1956, S. 45].
Эклектичность марашского кубка находит отклик на предметах из Криворожья и Люботина. У обеих скульптур прослеживается много общего с урартскими изображениями. Однако животные на урартских памятниках далеко не всегда имели обрамление из локонов [Пиотровский, 1962, рис. 28-30]. Нередко пряди шерсти представлялись как короткие спирали [Akurgal, 1968, Abb. 53, 54, Taf. XXXVIb; Vanden Berghe, De Meyer, 1983, N174, 176; Wartke, 1993, Abb. 29]. Складки под бычьими глазами урартские мастера отмечали достаточно редко [Wartke, 1993, Abb. 29], а брови обозначали в виде широкого валика [Пиотровский, 1962, рис. 28-30; Akurgal, 1968,
(81/82)
Abb. 53, 54, Taf. XXXVIa, b; Vanden Berghe, De Meyer, 1983, N174, 176, 179; Merhav, 1991, N3]. Самым важным отличием служит трактовка шерсти на лбу. Для урартского образа типичным являлось деление стилизованной шерсти на две части не по вертикали, а по горизонтали [Пиотровский, 1962, рис. 28-30; Akurgal, 1968, Taf. XXXVIa, b; Vanden Berghe, De Meyer, 1983, N179; Merhav, 1991, N3; Born, Hansen, 1994, Abb. 33]. Bсё это не позволяет отнести находки из Криворожского и Люботинского курганов к произведениям чисто урартского искусства.
Ассирийские бронзовые наконечники мебели в форме телячьей головы (IX-VIII вв. до н.э.), найденные в Нимруде, несмотря на сходную моделировку, также не могли послужить прототипом. Шерсть у этих бычков показана не в виде локонов, а как ряд волнистых линий, под глазами отсутствуют чётко выраженные складки, уши не закручены в спирали [Манцевич, 1958, рис. 4, 2; Curtis, 1988, fig. 74, 76]. Нимрудские же рельефы первой половины IX в. до н.э. и второй половины VIII в. до н.э. демонстрируют самое близкое подобие рассматриваемым скульптурам. У быков на рельефах аналогично переданы головы, лопатки и мускулатура передних ног. Но волосяной покров, а также уши стилизованы иначе [Матье, Афанасьева, Дьяконов, Луконин, 1968, ил. 234б; Barnett, 1975, pl. 35, 53]. Характерная трактовка шерсти у телят из скифских курганов находит параллели на других памятниках искусства Ассирии. Вертикальная разделительная линия как элемент стилизации волосяного покрова присутствует на бронзовой гире, выполненной в виде лежащего барана (IX в. до н.э.) [Meyer, 1965, Abb. 129]. У этого зверя глаза и передние ноги решены точно так же, как у находок из скифских курганов, хотя участки шерсти проработаны простыми штрихами. Изображения локонов, идентичные рисункам на скульптурах из Люботина и Криворожья, представлены на каменных статуях крылатых быков — шеду последней четверти VIII в. до н.э. из Дур-Шаррукина [Матье, Афанасьева, Дьяконов, Луконин, 1968, ил. 242-243].
Как указывалось, Б. Свобода отмечал на марашском сосуде воздействие позднехеттского и урартского искусства, прослеживая его в трактовке передних ног животного. По-видимому, здесь следует говорить скорее только об урартской художественной традиции, поскольку именно по её канонам мышцы конечностей животных завершались маленькими кружками. Малоазийское влияние, вероятно, могло сказаться на одном из отличительных признаков телят — смыкании ушей с глазами. Например, аналогичная деталь фиксируется у быка на ортостате VIII в. до н.э. близ г. Анкары [Матье, Афанасьева, 1968, ил. 264а]. Однако подобные отступления от реального образа встречаются на памятниках искусства различных ближневосточных центров. Другие характерные черты малоазийских изображений — наличие складок возле ушей, отсутствие обозначения волосяного покрова — не находят соответствий на скульптурах из скифских курганов [Müller-Кафе, 1980, Tf. 176A, 77; В, 3, 12].
Художественное воздействие Сирии выявить не удаётся. У быков на сирийских памятниках редко показана шерсть на голове, морде, шее и груди. Когда же она отмечена, то имеет вид волнистых линий. Складки под глазами часто не проработаны [Parrot, 1961, fig. 97A; Mallowan, 1966, N53, 125, 126, 173-176, 439; Müller-Karpe, 1980, Tf. 148, 1, 3, 6].
Таким образом, находки из Криворожья и Люботина, а также предмет из Мараша большее число параллелей находят среди изделий ассиро-урартского круга. Очевидно, стилистической основой при создании всех вещей послужило ассирийское искусство, но несколько видоизменённое из-за культурных влияний соседних регионов. Одним из таких источни-
(82/83)
ков могли оказаться малоазийские области. Вероятно, местом изготовления предметов явились северные или северо-западные районы Ассирии. На настоящий момент скульптуры следует датировать VIII-VII вв. до н.э. (скорее всего, рубежом веков или первой половиной VII в. до н.э.).
Особенность раскопок Криворожского и Люботинского курганов не позволяет точно установить, находились ли фигурные наконечники на сосудах, или они были демонтированы. Описания А.В. Бандуровского и Ю.В. Буйнова дают возможность предположить, что в погребении Люботинского кургана грабители обнаружили только фигурное украшение, без самого роговидного кубка [Бандуровский, Буйнов, 2000, с. 65]. При составлении описи находок из Криворожского кургана было упомянуто «перегорелое вещество ярко-зелёного цвета» [Манцевич, 1958, с. 196]. Разумеется, его можно представить как остатки сосуда, изготовленного из меди, бронзы или серебра с большой примесью меди, но характер сломов головы бычка указывает скорее не на коррозию, а на механические повреждения. По-видимому, и в Криворожском кургане находилась протома животного. Не исключено, что наконечники ещё до попадания в курганы были сняты скифами с кубков и переиспользованы. Какое применение им нашли кочевники, определить трудно. Вероятно, протомы сыграли символическую роль замены реального жертвенного животного. По крайней мере, Геродот отмечал частое использование скифами быков в качестве жертвы [Herod., IV, 61 — Доватур, Каллистов, Шишова, 1982, с. 121].
^ Бронзовая обойма из Краснознаменского кургана (кат. 43) — единственный предмет среди рассматриваемых памятников торевтики, являющийся украшением колесницы. Вещь орнаментирована шестью-семью поясками из горизонтальных валиков, в центре имеется медальон с человеческой фигурой в головном уборе и длинном одеянии. Фигура заключена в рубчатое кольцо, обрамлённое треугольными лучами с кружками на концах. В.Г. Петренко, проанализировав изображение, пришла к выводу, что это ассирийская богиня Иштар, и датировала его серединой — третьей четвертью VII в. до н.э. [Петренко, 1980, с. 18]. Приведенная В.Г. Петренко аналогия с рельефа дворца Ашшурбанипала из Ниневии [Петренко, 1980, рис. 4, 5], достаточно близка краснознаменскому образцу и отличается только несколько иной трактовкой складок одеяния и отсутствием лука, выглядывающего из-за спины. Однако, согласно предположению И.Н. Медведской [Медведская, 1997, с. 125, примеч. 2], краснознаменская находка может относиться к более раннему времени, о чём свидетельствуют урартские бронзовые детали колесниц конца IX в. до н.э., украшенные подобными изображениями [Merhav, Seidl, 1991, N30 a, b]. Сходное мнение было высказано А.И. Иванчиком, сравнившим обойму с урартскими вотивными пластинами конца VIII-VII в. до н.э. [Иванчик, 2001, с. 282, примеч. 3].
По всей видимости, обойму следует относить к VIII — третьей четверти VII в. до н.э. Местом её изготовления могла быть не только Ассирия, но и Урарту.
^ Предметы, не имеющие чёткой атрибуции. Золотой наконечник в виде фигуры оленя из Келермеса (кат. 44). Он представляет собой полый усечённый конус, переходящий в скульптуру животного. У края предмета сверху и снизу пробиты два отверстия, в которые вставлены два золотых шипа. Наконечник был отлит по модели, вырезанной из воска. Первоначально у него была более длинная втулка или же внутрь предмета плотно вставлялась дополнительная трубка. Впоследствии втулка/трубка отломилась, и мастер исправил поломку, забив неровный край молотком 1. [36]
(83/84)
Олень на наконечнике показан лежащим со сложенными ногами и запрокинутой назад головой, увенчанной мощными рогами. Фигура проработана крупными плоскостями с резкими гранями. Большие углублённые круглые глаза, видимо, некогда были заполнены вставками. По основным стилистическим признакам изделие входит в круг памятников скифского звериного стиля. Однако на плече животного сделана странная «перетяжка», отчего оно приобрело вид перевёрнутой «восьмёрки», на бедре смоделирован непонятный заострённый выступ, а на морде нет и намека на чёткие округлые ноздри. Своеобразно трактованы рога оленя: стволы рогов не показаны, роговые отростки превращены в изогнутые каплевидные фигуры, окончания которых закручиваются в спирали по направлению к голове. Надглазные отростки выпрямлены, но окончания их тоже завиты в спирали. Согласно канонам скифо-сибирского искусства, оленьи рога должны изображаться иначе. Как правило, это ряд дуг, направленных в сторону хвоста, или же полоса из S-образных завитков. Ближайшие параллели для стилизации келермесского наконечника известны на золотой чаше из Келермеса (кат. 36-37), бронзовом псалии из Луристана [Луконин, 1977, рис. на с. 25], росписи керамического сосуда из Первого (?) Разменного кургана [Артамонов, 1948, рис. 2, 3], золотых бляшках из Ульского аула и Журовки [Kossack, 1987, Abb. 11, 16]. Особенно похожи на келермесского оленя изображения на двух первых предметах.
Как уже отмечалось, декор чаши (кат. 36-37) и оформление луристанского псалия были выполнены ближневосточными торевтами под непосредственным влиянием произведений скифского искусства. Этим и объясняются допущенные неточности при копировании скифского образа.
Что касается техники изготовления предмета (литьё по восковой резной модели), то она не может однозначно указывать на руку кочевнического мастера, так как и келермесская секира (кат. 5) — изделие явно нескифское — имеет на обухе 4 скульптурки козлов, отлитых по модели, вырезанной из воска.
Следует подчеркнуть, что для скифо-сибирского мира периода архаики наконечник из Келермеса является уникальным памятником. Обычно подобные предметы украшались протомами зверей [Виноградов, 1980, рис. 110; Завитухина, 1983, кат. 154; Археология СССР, 1989, табл. 38, 2, 3, 6; 39, 2, 9, 11, 20]. Целые же зооморфные фигуры на скифо-сибирских наконечниках и навершиях появляются лишь с конца VI — начала V в. до н.э. Кроме того, мастерам архаической кочевнической культуры не было свойственно размещать на каком-нибудь изделии вытянутой формы скульптурки животных таким образом, чтобы они оказывались органичным продолжением самой вещи. Наоборот, фигуры, как правило, располагались перпендикулярно относительно предмета. В то же время на Кавказе и Ближнем Востоке действовал первый принцип размещения скульптурных украшений.
Точное назначение наконечника из Келермеса остаётся неясным. Вряд ли он относился к деревянному псалию [Галанина, 1983, с. 34; 1997, с. 232], так как для VII-VI вв. до н.э. ни в скифском мире, ни на Кавказе и Ближнем Востоке ничего подобного не известно. Возможно, миниатюрная фигура оленя, имитирующая образ звериного стиля, украшала изделие, не совсем обычное для традиционной скифской культуры. Что такое предположение оправданно, подтверждают келермесская чаша, луристанский псалий, диск, пояс и диадемы из Зивие [Ghirshman, 1964, ill. 142, 143, 147] и Келермеса (кат. 16), которые типологически чужды кочевнической культуре, хотя их декор копировал скифские образы. Принимая во внимание наблюдения о первоначальном облике наконечника, можно пред-
(84/85)
положить, что он был надет на гривну или булавку. И хотя у скифов в период архаики эти вещи не украшались фигурами зверей, на Кавказе и Ближнем Востоке это было обычным явлением. Примером служат обломок серебряной с позолотой гривны из Кармир-Блура [Пиотровский, 1962, рис. 51] и биметаллическая булавка (бронза, железо) из Луристана [Bunker, Chatwin, Farkas, 1970, N8]. После поломки келермесский наконечник, видимо, был укреплён на какой-то иной предмет, для чего потребовалось вбить шипы.
Датировку предмета следует связать со временем пребывания кочевников на Ближнем Востоке, то есть с концом VIII-VII в. до н.э.
^ Золотой наконечник с розеткой из Келермеса (кат. 45). Он представляет собой полый цилиндр, по бокам обрамлённый рельефными валиками и сверху декорированный 13-лепестковой выпуклой розеткой. Как считала А.П. Манцевич, наконечник являлся деталью парадного табурета [Манцевич, 1958, с. 200]. Л.К. Галанина же, сравнив его с костяными навершиями из Нимруда, справедливо предположила, что он мог венчать ассирийский скипетр [Галанина, 1991, с. 16; 1997, с. 154]. То, что предмет входил в круг памятников культуры Ассирии, подтверждается изображением на ассирийском рельефе, где представлена булава (?) с подобным окончанием [Hrouda, 1965, Taf. 32, 14, 15]. Несколько сохранившихся гвоздей келермесского наконечника имеют характерные полусферические шляпки. Гвозди аналогичной формы некогда скрепляли с основой костяную женскую голову, так называемую «Мону Лизу Нимрудскую» [Mallowan, 1966, N71].
Считать наконечник деталью мебели не позволяет наличие на нём элементов крепежа (гвозди, остатки мастики), так как все рассмотренные принадлежности ближневосточной мебели (кат. 32-33, 34, 35) (за исключением мельгуновской находки, кат. 26-29) попали в скифские курганы уже в демонтированном виде. Наконечник же с розеткой, очевидно, был помещён в погребение вместе с тем предметом, который он украшал. Вполне возможно, что это был трофейный скипетр.
На основании ассирийских аналогий время изготовления наконечника можно отнести к концу VIII — последней трети VII в. до н.э. (более вероятна нижняя хронологическая граница).
^ Зеркало из Келермеса (кат. 46). Предмет дисковидной формы отлит из серебра. На тыльной стороне он имеет вертикальный бортик и в центре её два столбика — остатки отломанной ручки. Эта сторона украшена восемью орнаментированными электровыми накладками (рис. 83).
Обычно предмет относится исследователями к одному из типов архаических зеркал скифо-сибирского мира. Противоположное мнение высказала Т.М. Кузнецова, согласно её утверждению, этот предмет является культовым сосудом («фиалой Геракла») [Кузнецова, 1987, с. 139; 1987а, с. 57-59; 1991, с. 40-42]. Одним из основных аргументов в пользу такого предположения служит отсутствие полировки на лицевой стороне предмета. Эта сторона, по мнению исследовательницы, «никогда и не подготавливалась (не обрабатывалась) под полировку». Однако общеизвестно, что серебро при продолжительном нахождении в земле корродируется и становится хрупким под влиянием почвенных хлористых солей и влаги [Скопинцева, 1964, с. 3], как это произошло с обоими келермесскими ритонами (кат. 39, 40). Следует отметить, что на зеркале, несмотря на коррозию, всё же прослеживаются следы заглаживания (шлифовки) лицевой стороны (рис. 84). Тем не менее, нельзя исключить того, что предмет действительно не полировался, как не полировались многие древнекочевнические вещи данной категории, использовавшиеся, вероятнее всего, в качестве
(85/86)
религиозно-магических атрибутов, а не туалетных принадлежностей. Подобный факт засвидетельствован в древнем Китае, где аналогичные бронзовые диски с петелькой, появившись в конце II тыс. до н.э., только с рубежа III-II вв. до н.э., несколько видоизменясь, стали предметами туалета [Стратанович, 1961, с. 78] 1. [37]
Что касается предположения о заполнении жидкостью тыльной стороны келермесского зеркала, то оно звучит вполне правдоподобно. Правда, предметом нельзя было совершать возлияний, зато вполне вероятно применение его в качестве гадательного инструмента. При гадании могли использоваться как лицевая, так и тыльная его стороны 2. [38]
Некогда Б.З. Рабинович и М.И. Максимова предположили, что столбики несохранившейся ручки зеркала завершались бляшкой в виде фигуры животного [Рабинович, 1936, с. 90; Максимова, 1954, с. 282-283]. Бронзовые диски с бортиками и центральной зооморфной ручкой известны по находкам на Кавказе [Артамонов, 1966, табл. 35; Нехаев, 1980, рис. 841; Барцева, 1981, рис. 29, 1; Переводчикова, 1984, рис. 2, 1; Галанина, Алексеев, 1990, рис. 9, 6], в Поднепровье [Бобринский, 1901, табл. XII, 3; Ильинская, 1968, табл. XLV, 1; Ковпаненко, 1981, рис. 10, 1], Поволжье [Збруева, 1952, рис. 11в] и Прикарпатье [Roska, 1937, Abb. 21, 2]. Обычно они датируются второй половиной VII-VI в. до н.э. [Рабинович, 1936, с. 90; Кузнецова, 1991, с. 38-39, 96; Алексеев, 1992, с. 36].
Одновременно с этой группой бытовали зеркала, имеющие ручку с круглой бляшкой, на которой нанесены четыре диаметральные линии, создающие фигуру в виде снежинки [Marinescu, 1984, Abb. 10, 3; Виноградов, 1972, рис. 3, 4; 14, 4] 3. [39] Вполне вероятно, что и на келермесском предмете могла быть подобная деталь. В таком случае линии на бляшке, служа своеобразным продолжением полос, ограничивающих каждую накладку, соединяли бы их в едином центре.
Однако диски, украшенные бляшками со «снежинками» или рельефными изображениями животных, как правило, не орнаментировались, в то время как зеркала с петелькой в центре нередко покрывались декором [Tallgren, 1917, pl. VIII, 3; Грязнов, 1947, рис. 4, 11, 12; Маргулан, Акишев, Кадырбаев, Оразбаев, 1966, рис. 5, 10; Членова, 1967, табл. 21, 1; Ильинская, 1968, табл. XVI, 1; Кадырбаев, 1974, рис. 11; Галанина, 1985, рис. 3, 10, 13; Варёнов, 1985, рис. 1; 2, 1; 3, 1]. Обычным украшением служили геометрические фигуры, хотя известны и зеркала с изображениями животных.
Так, на зеркале с Алтая представлены стоящие на краях копыт пять оленей и козёл [Грязнов, 1947, рис. 4, 11]. На зеркале из Китая изображены два хищника, травоядное животное и птица [Варенов, 1985, рис. 3, 1]. Зеркало из Казахстана украшено фигурами стоящего кабана, лежащего с повёрнутой назад головой травоядного и незаконченным рисунком головы какого-то зверя (кабана?) [Кадырбаев, 1974, рис. 11]. Зеркало из Поднепровья имеет орнаментацию в виде головы хищной птицы [Ильинская, 1968, табл. XLVI, 1]. При рассматривании келермесского зеркала на фоне этой группы предметов создаётся впечатление, что оно отличается
(86/87)
лишь электровыми накладками и богатством декора. По остальным характеристикам келермесский образец соответствует петельчатым зеркалам. Даже необычный материал — серебро находит подобия. Так, сравнительно недавно в курганах могильника Жиланды в Казахстане и близ г. Люботин в Приднепровье были найдены два кочевнических зеркала из серебра [Кадырбаев, 1974, рис. 11; Кузнецова, Тепловодская, 1994, с. 91, рис. 37, 9; Бандуровский, Буйнов, Дегтярь, 1998, рис. 3, 6]. Обращает на себя внимание тот факт, что зеркало из-под г. Люботин и по диаметру близко келермесскому. Всё это позволяет предположить наличие у келермесского зеркала петлевидной ручки.
Предваряя стилистический анализ орнаментальных изображений, необходимо остановиться на технике изготовления предмета. Он был отлит по утрачиваемой модели вместе с бортиком и центральной ручкой. При этом у основания бортика, напоминающего вытянутую прямоугольную трапецию, мастер смоделировал выступ. Затем по всей длине выступа сверху и снизу он сделал с помощью чекана две канавки, заправил в нижнюю канавку пластины и надёжно закрепил их прочеканкой выступа сверху, при этом получился рубчатый поясок, отделяющий бортик от диска. Если восстановленная очередность действий мастера верна, то не вызывает сомнений, что изначально существовал план отделки зеркала пластинами. Поскольку такая форма бортиков у древнекочевнических зеркал нетипична, напрашивается вывод о нескифском происхождении мастера [Кисель, 1993, с. 111, 113]. Однако среди зеркал скифо-сибирского мира известен ряд предметов, имеющих подтреугольные бортики (например, находки из кургана 11 Уйгарака, кургана 1 с. Герасимовка, кургана 35 с. Бобрица [Ильинская, 1968, табл. XLV, 1; Вишневская, 1973, табл. II, 9; Ковпаненко, 1981, рис. 10, 1]), которые несложно переделать с помощью чеканов в трапециевидные с выступом. Поэтому нельзя исключить, что характерная форма бортика келермесского зеркала не была получена при отливке, а придавалась ему впоследствии вручную, непосредственно при установке пластин. Тогда, возможно, автор, отливший вещь, принадлежал к кочевнической среде, на чём и настаивала М.И. Максимова [Максимова, 1954, с. 284, 304]. Косвенным подтверждением может служить отличительная черта келермесского зеркала — исправленный литейный брак. При изготовлении предмета возле бортика произошёл недолив серебра, и мастеру пришлось доливать новый металл 1. [40] Чтобы соединение материалов было более надёжным, литейщик сделал на диске 9 глубоких насечек инструментом типа зубила (насечки отчётливо видны на рис. 84). Дополнительно были высверлены ещё и лунки. Сейчас с торцевой части диска прослеживаются только два углубления, так как в одном месте новый металл выкрошился, а в другом случился вторичный недолив. Трудно ответить на вопрос, для чего служили лунки. По мнению С.А. Жебелёва, здесь располагалась дополнительная боковая ручка [Жебелёв, 1905, л. 4]. Такой же точки зрения придерживается Т.М. Кузнецова, не исключающая, однако, возможности присутствия в этом месте какой-то скульптурной фигурки [Кузнецова, 1991, с. 41]. Р.С. Минасян считает, что лунки потребовались мастеру для исправления брака (устное сообщение). Это предположение представляется наиболее убедительным, так как у подобных древнекочевнических зеркал не встречается сочетаний центральной и боковой ручки и не зафиксировано никаких скульптурок на гуртах.
Исправление брака было проведено достаточно грубо, литейщик даже не постарался по-настоящему зашлифовать повреждённый край. Поэтому
(87/88)
сомнительно, что мастер, допустивший брак и не до конца его исправивший, был в состоянии отлить тонкий изящный выступ.
Способ декорировки келермесского зеркала отличается тщательностью и аккуратностью. Пластины, как уже указывалось, были заправлены под выступ, который был сверху прочеканен. Кроме того, они были припаяны к основе и друг к другу. Места стыков были закрыты тонкими электровыми полосками, прочеканенными сверху. У столбиков ручки пластины скреплялись чем-то наподобие шайб, оставивших следы в виде окружностей. Все 8 пластин огибают столбики ручки, что могло произойти только в том случае, если монтаж накладок производился на готовую вещь. Это отчасти доказывает отсутствие первоначального плана украшения предмета пластинами.
Рисунки на накладках нанесены не гравировкой [Ростовцев, 1918, с. 45; Боровка, 1922, с. 201; Рабинович, 1936, с. 90], не оттиском с гравированного диска [Жебелёв, 1905, л. 6; Фармаковский, 1920, л. 8; Артамонов, 1966, с. 20; Огненова-Маринова, 1975, с. 130] и не пуансовкой [Максимова, 1954, с. 283], а в технике металлопластики с доработкой чеканом. Причём пластины орнаментировались ещё до сборки и крепления к основе, из-за чего розетка в центре приобрела ассимметричные очертания, произошла нестыковка разделительных дуг на трёх соседних секторах, а также частичное перекрытие рисунков рубчатым поясом, служащим обрамлением секторов и одновременно дополнительным элементом крепежа (наблюдение Д.А. Мачинского).
Одна из пластин до реставрации неплотно прилегала к диску, и было видно, что аналогичное изображение присутствует на самой основе (рис. 85). Это могло произойти в результате коррозии металла, как и в случае с рукоятками мечей из Келермеса и Литого кургана (кат. 1, 4) и келермесского ритона (кат. 38) 1. [41]
Основу орнаментальной композиции обкладки создают два перпендикулярно пересекающихся диаметра — двойные рубчатые полосы. Рубчатое же обрамление, идущее по краю диска, ограничивает композицию. Сектора обкладки соединяются в центре 16-лепестковой розеткой, имеющей неправильную форму, что отчасти нарушает общую симметрию. Разделение обкладки на 8 секторов нельзя объяснить наличием ручки (гораздо проще было обойтись двумя полукружиями). Видимо, число пластин было продиктовано иными причинами, может быть, идеологического характера, как предположила С.С. Бессонова [Бессонова, 1983, с. 83].
Если восстановленный процесс изготовления зеркала верен, то можно реконструировать следующую картину. Декоратор, получивший отлитый кочевническим мастером серебряный диск с подтреугольным бортиком и петлевидной ручкой, столкнулся с проблемой укрепления орнаментированных пластин на тыльную сторону вещи. Сложность заключалась в том, что ручка-петля композиционно не сочеталась с нанесённым рисунком. В этом случае можно было ликвидировать ручку или замаскировать её. Повидимому, торевт избрал второй путь, изготовив какую-то конструкцию, закрывающую петлю. Составляющей частью конструкции были шайбы или полые цилиндры, оставившие концентрические следы вокруг обломков ручки.
Характерная черта декора зеркала — разделение на сектора — достаточно редкое явление для памятников искусства Ближнего Востока. Как отметила С.С. Бессонова, пожалуй, наиболее часто оно наблюдается в финикийской художественной традиции IX в. до н.э. [Бессонова, 1983,
(88/89)
с. 84]. М.Ю. Вахтина указала на иной возможный источник. Отметив, что «одна из причин „расчленённости” келермесского зеркала лежит в плоскости его хронологического и стилистического „стыкового” положения на рубеже двух разновременных традиций», исследовательница предположила сочетание — «микенско-геометрического» и «архаического ориентализирующего» искусства [Вахтина, 2000, с. 60]. Однако нельзя забывать, что в древнекочевнической среде на тыльные стороны зеркал иногда наносились перпендикулярно пересекающиеся линии или же сам орнамент разбивался на сектора [Грязнов, 1947, рис. 4, 11; Галанина, 1985, рис. 3, 10, 13; Варёнов, 1985, рис. 1, 1, 3, 4].
Сектора обкладки келермесского предмета плотно заполнены изображениями, причём торевт, старательно избегая пустот, с большим мастерством вписывал фигуры животных и фантастических существ в заданное пространство. Обращает на себя внимание стремление мастера как можно более тесно расположить изображения, словно он старался связать в узел фигуры каждого сектора. Данная стилистическая черта, вероятно, связана с тем, что оригиналами для копирования служили хрупкие скульптурные изделия, так как именно им придавался подобный вид. Несмотря на чёткие границы секторов, разделение их плоскостей на верхнюю и нижнюю части создаёт впечатление двух кольцеобразных фризов, обрамляющих розетку. Преобладающая левосторонняя направленность фигур закручивает всю композицию против часовой стрелки.
Изображения даны строго в профиль (за исключением сектора 1) и не имеют второго плана (кроме сектора 4). Фигуры отличаются монументальностью, что опять-таки ассоциируется со скульптурами. Орнаментация выполнена в том же стиле, что и на ритоне (кат. 38), однако отличается несколько большей эклектичностью.
Все образы животных и фантастических существ стилистически едины, но различаются мелкими характерными чертами. На основе этих деталей фигуры можно разбить на несколько условных групп (иных по составу, чем у М.И. Максимовой [Максимова, 1954, с. 286]).
Группа I.
В эту группу входят фигуры крылатой богини (сектор 1), сфинксов (сектора 3, 7), грифонов (сектора 5, 7), пантер или барсов (сектора 1, 4), безоарового козла (сектор 8), шакала (?) (сектор 6) и головы барана — муфлона или аркала (сектор 8) 1. [42] По мнению М.И. Максимовой, перечисленные изображения по стилю «чисто греческие» [Максимова, 1954, с. 286]. М.Ю. Вахтина поддержала эту характеристику относительно фигуры шакала или лисы [Вахтина, 2000, с. 62]. Но вполне можно говорить о преобладании в выделенной группе элементов восточногреческого искусства.
Центральный персонаж всей орнаментальной композиции зеркала — крылатая богиня. Её фигура единственная, занимающая целый сектор. Тело представлено в фас, тогда как голова и босые ступни — в профиль. На богине длинное одеяние до пят, украшенное шестью поперечными полосами прерывистого меандра, поверх него надето другое, спускающееся до бедер, оно перехвачено поясом с кистями и покрыто чешуйками. За спиной божества показаны загнутые вверх крылья. На голове аккуратно убранная причёска с тремя косицами, её перехватывает налобная повязка. В согнутых руках богиня держит за лапы двух кошачьих хищников (пантер? барсов?), морды которых изображены в фас, а тела — в профиль. Тела животных покрыты изогнутыми штрихами, передающими пятнистость шкуры.
(89/90)
Облик богини напоминает крылатую фигуру на келермесском ритоне (кат. 39), хотя позы, одеяние и количество крыльев не совпадают. Фронтальный ракурс богини обычен для антропоморфных персонажей ближневосточного искусства [Флиттнер, 1940, с. 50]. Крылья аналогичны крыльям грифонов и сфинксов, только перья у них покрыты штриховкой, что выделяет это женское божество из ряда других фантастических существ. Сам тип крыльев, связанный, по мнению H.H. Погребовой, с переднеазиатской, в частности финикийской, традицией, был широко распространён в художественном творчестве периода архаики о. Родос и побережья Малой Азии [Погребова, 1948, с. 64]. Однако это верно лишь относительно внутренней проработки крыльев. Контур же их, выделяющий каждое перо, — деталь достаточно редкая для восточногреческого искусства, как уже говорилось выше. Это может указывать на более тесную связь келермесских фантастических персонажей с древневосточными (в том числе ассирийскими) прототипами, чем у родосско-ионийских образов.
Фигура богини плоская, безгрудая, с непропорционально большой головой. По общим очертаниям она несколько напоминает колонну, что перекликается с греческой скульптурой дедалического стиля второй половины VII в. до н.э. [Виппер, 1972, N85; Mer Egée. Grèce des Iles, 1979, N71] и памятниками сиро-финикийского искусства IX-VIII вв. до н.э. [Falsone, 1988, pl. 137-139, 141, 154; Jahrbuch, 1999, Abb. 42, 43] (рис. 86, 87).
Изображения божеств с кошачьими хищниками в руках были очень широко распространены в различных художественных течениях древнего мира. Келермесский персонаж обнаруживает сходство с богинями на золотых подвесках 640-630-х гг. до н.э. с о. Родос [Radet, 1909, fig. 9; Mer Egée. Grèce des Iles, 1979, N92, 93; Френсис, 1984, ил. 166] (рис. 88, 89, 90, 91). Но наиболее близка ему, как справедливо отмечала М.Ю. Вахтина [Вахтина, 2000, с. 66], фигура на бронзовой пластине второй половины VII в. до н.э. из Олимпии [Radet, 1909, fig. 24], в которой М. Колиньон усматривал сильное влияние лидийского и финикийского искусства [Collignon, 1892, р. 89-90] (рис. 92). У обеих богинь идентичная поза, похожие причёски, трактовка крыльев и расположение пальцев рук, которые наложены сверху на звериные лапы. Но иконография «олимпийского» божества более разработана: фигура пропорциональна, длинное платье покрыто плавными складками, показана дополнительная пара крыльев, спускающихся от пояса вдоль ног (контур этих крыльев не выделяет каждое перо). Ещё далее от келермесской богини отстоят изображения на ручках «вазы Франсуа» (ок. 560 до н.э.) [Furtwängler, Reichold, 1904, Taf. 1, 2].
Примечательно, что лицо келермесского божества такое же, как у всех антропоморфных существ на зеркале. При сравнении с образцами персонажей родосско-ионийской школы бросается в глаза укрупнённость черт, а также некоторая сдавленность и удлинённость форм черепов на зеркале. По мнению М.И. Максимовой и Л.В. Копейкиной, эти особенности были характерны для ассиро-вавилонского круга [Максимова, 1954, с. 289; Копейкина, 1981], но и для сиро-финикийского тоже [The Metropolitan Museum of Art, 1985, fig. 47] (рис. 93).
Однотипны и причёски келермесских антропоморфных существ. Правда, у богини тонкие косы, ниспадающие на плечи и грудь, покрыты штриховкой, что, как и проработка перьев, выделяет её из этого ряда. Аналогичные причёски М.И. Максимова обнаружила в восточногреческом искусстве [Максимова, 1954, с. 288]. Действительно, изображения на уже упоминавшейся пластине из Олимпии и на бронзовом панцире оттуда же, датируемом второй половиной VII в. до н.э., воспроизводят именно этот
(90/91)
тип причёски [Pfuhl, 1923, Taf. 30, N135] 1. [43] Однако на греческих изделиях отсутствует такая существенная деталь, как завитки на концах кос и прядей. Между тем эта особенность наблюдается на резных костяных изделиях из крепости Салманасара, выполненных в сиро-финикийском стиле конца VIII в. до н.э. [Mallowan, 1966, N450, 456, 545] 2. [44]
Таким образом, на основании черт лица и причёски келермесской богини можно говорить о некоем промежуточном типе между сиро-финикийской и восточногреческой иконографией, наиболее приближённом к последней 3. [45]
Как правило, изображения богинь, держащих животных, мастера старались вписать в прямоугольник. Келермесская же фигура заполняет подтреугольный сектор. Аналогичное построение фигур встречается только на костяных конских налобниках первой половины VIII в. до н.э. из крепости Салманасара, выполненных в сиро-финикийском стиле, подражающем египетским канонам [Mallowan, 1966, N458, 549] (рис. 94, 95).
Сфинксы и грифоны, представленные на зеркале, имеют много общих черт. Сходны их тела, крылья и хвосты, различаются только головы. То же можно сказать и о сфинксе. Л.В. Копейкина в качестве параллели справедливо указала росписи ойнохои Леви 650-640-х гг. до н.э. [Mer Egée. Grèce des Iles, 1979, N78] (рис. 51, 96). Выполненные на ней существа имеют те же непропорционально большие головы, отчасти подобные причёски, круто загнутые крылья, выделенную мускулатуру тела и лап, а также шишковидное окончание хвоста. Однако для родосско-ионийской традиции характерна более обобщённая трактовка прически, оперения и абриса крыльев.
Тела сфинксов и грифонов, как почти у всех животных на зеркале (кроме хищников в секторах 1, 3, 4), покрыты рядами штрихов, имитирующих волосяной покров. Подобный художественный приём, уже отмеченный на келермесском ритоне (кат. 38), известен на памятниках греческого [Максимова, 1954, с. 288] и ближневосточного [Müller-Karpe, 1980, Taf. 104, В6; Vanden Berghe, 1982, Abb. 54, 55; Gehrig, Niemeyer, 1990, kat. 139] искусства.
Кроме того, фантастические существа (сектор 3, 5) и большинство животных имеют на задних лапах по две разделительные линии, что свойственно, по утверждению М.И. Максимовой, родосско-ионийской вазописи [Максимова, 1954, с. 287-288]. Но появление этого стилистического элемента на келермесском зеркале нельзя связывать только с греческим влиянием, так как аналогии встречаются и на Ближнем Востоке, например, хеттский рельеф XIII в. до н.э. из Язылкая [Bittel, 1934, Taf. XXX], иранские памятники искусства IX-VII вв. до н.э. [Ghirshman, 1964, ill. 30, 31, 36, 57, 63, 72, 91, 96, 127].
Хвосты сфинксов, грифонов, а также львов и пантер (кроме хищника в секторе 4) имеют шишковидные окончания, которые отделены от хвоста двумя штрихами и орнаментированы двумя-тремя уголками. Хотя подобный приём часто встречается на памятниках ионийской школы [Richter, 1930, pl. IX, fig. 30; Копейкина, 1972, рис. 4а], он является прямым заимствованием из искусства Ближнего Востока, где был известен с начала III тыс. до н.э., о чём свидетельствуют рельефные изображения сосуда из Хафадже [Матье, Афанасьева, Дьяконов, Луконин, 1968, ил. 167г].
(91/92)
В свое время М.И. Максимова датировала келермесских грифонов и сфинксов второй половиной VI в. до н.э. [Максимова, 1954, с. 289]. При этом исследовательница основывалась на ошибочном хронологическом разделении групп родосско-ионийской керамики [Максимова, 1954, с. 287, примеч. 1; Копейкина, 1971, с. 29], а в поисках параллелей избыточное внимание уделила керамике группы Эвфорба, хотя более правильным было бы обратиться к изделиям класса Камир и «ориентализирующей» группы.
Л.В. Копейкина, исходя из хронологических изменений иконографии восточногреческих фантастических образов, отнесла грифонов и сфинксов на зеркале к 640-630-м гг. до н.э. Однако уже с середины VII в. до н.э. у чудовищ родосско-ионийского типа фиксируется утрата шишковидного окончания хвоста и проработка крыльев одним рядом перьев. Это позволяет рассматривать келермесских фантастических существ как результат художественного творчества более раннего времени.
Геральдическая композиция из сфинксов в секторе 3, по мнению М.И. Максимовой, находит аналогию на обломке симы первой четверти VI в. до н.э. из Ларисы на о. Гермос [Максимова, 1954, с. 289-290, рис. 2]. Привлечение его в качестве параллели вряд ли было правильным, так как изображение слишком фрагментарно (фактически просматривается только часть лапы, опирающейся на колонну). Более близкое соответствие указывал С.А. Жебелёв [Жебелёв, 1905, л. 20], ссылаясь на бронзовый панцирь второй половины VII в. до н.э. из Олимпии [Pfuhl, 1923, Т. 30, N135]. Правда, между сфинксами на панцире нет колонны, и они смотрят вперёд, а не назад. Как отмечала Л.В. Копейкина, манера показывать антропоморфные существа смотрящими назад была заимствована греческим миром из художественного репертуара Ближнего Востока [Копейкина, 1981]. Для иллюстрации можно привести бронзовую накладку и глазурованную панель из крепости Салманасара, датируемые IX в. до н.э. [Mallowan, 1966, N324, 373].
Следующие изображения группы I — пантеры секторов 1 и 4 — несколько отличаются друг от друга. Так, фигура хищника под деревом выделяется массивностью головы и шеи, плечо ограничено не линией, а пятнами шкуры, ухо и хвост заштрихованы, на конце хвоста вместо шишковидного окончания — пучок волос, а полость живота подчёркнута «елочным» орнаментом, подобно львам на зеркале. Не исключено, что в данном случае имелся в виду самец, как это предполагал С.А. Жебелёв [Жебелёв, 1905, л. 22].
Пантеры зеркала находят много общего с изображениями ориентализирующего стиля на родосско-ионийских сосудах третьей четверти VII в. до н.э. [Копейкина, 1981], золотом ожерелье и кулоне 630-620-х гг. до н.э. с о. Родос [Mer Egée. Grèce des Iles, 1979, N92, 93; Френсис, 1984, N166], а также на греческой терракоте VII-VI вв. до н.э. [Richter, 1930, pl. IX, fig. 30]. Особенно близкое сходство обнаруживается со зверем на ойнохое около 640-х гг. до н.э. из кургана на Темир-Горе [Копейкина, 1972, рис. 4а] (рис. 97а). Пантеры сектора 1 сближаются с ней характерной трактовкой морды и тела, а хищник сектора 4 изображён в такой же позе (хотя у него иначе повёрнута голова). Однако стоит отметить, что келермесские пантеры находят соответствия и среди ближневосточных образов. Так, например, у терзающего кабана льва, представленного на обломке керамики XIV в. до н.э. из Вавилона, в сходной манере смоделирована голова и проработана морда, и тоже показана выемка на плече [Das Vorderasiatische Museum, 1989, N51] (рис. 98).
Безоаровый козёл на зеркале также выполнен в русле традиций родосско-ионийской вазописи. В качестве аналогии вновь может быть исполь-
(92/93)
зована ойнохоя с Темир-Горы [Копейкина, 1972, рис. 3а] (рис. 97б), хотя у келермесского копытного рог загибается более плавно и хвост опущен вниз, а не поднят вверх. По этим признакам его можно сопоставить с изображениями ближневосточного искусства (сирийская резная кость XIII-X вв. до н.э. [Bessert, 1951, Abb. 667], ассирийская костяная пластина IX в. до н.э. [Mallowan, 1966, N561] и рельеф конца VIII в. до н.э. [Матье, Афанасьева, Дьяконов, Луконин, 1968, ил. 244], иранский бронзовый ритон VIII-VII вв. до н.э. [Ghirshman, 1964, ill. 404]). Аналогичные фигуры козлов можно наблюдать на керамическом сосуде из Зивие [Ghirshman, 1964, ill. 398] и золотой чаше из Келермеса (кат. 36-37). Поза же лежащего копытного с выставленной вперёд и согнутой передней ногой была характерна как для искусства древнего Востока [Артамонов, 1968, с. 12 (?)], так и для Ионии [Furtwängler, 1990, S. 71].
Фигура «келермесского» шакала (?) напоминает бегущих собак ориентализирующего стиля [Максимова, 1954, с. 289, примеч. 1; Копейкина, 1981]. В качестве примера вновь следует обратиться к ойнохое с Темир-Горы [Копейкина, 1972, рис. 3б] (рис. 97в), а также упомянуть росписи на тарелке кикладского полихромного стиля около 660 г. до н.э. с о. Фазос [Древнее искусство... №40] и родосско-ионийских сосудов последней четверти VII — рубежа VII-VI вв. до н.э. [Ghirshman, 1964, ill. 580; Копейкина, 1972, рис. 2в; 1982, рис. 24; Вахтина, 1996, рис. 2, 1, 2, 4, 5]. Однако у шакала (?) менее вытянутое тело, иначе трактовано ухо и голова обращена назад, а не смотрит вперёд. Всё это, возможно, опять-таки указывает на тесную связь орнаментации зеркала с ближневосточным кругом памятников. По крайней мере, такое же укороченное туловище показано у пса на серебряной пластине VIII-VII вв. до н.э. из Луристана [Ghirshman, 1964, ill. 95], а у собаки с серебряной финикийской чаши 710-675 гг. до н.э., кроме того, ещё и идентично выполнена шкура [Gehrig, Niemeyer, 1990, Abb. 23].
М.Ю. Вахтина в этой фигуре зеркала видит лису и связывает её со сравнительно редкими изображениями архаического греческого искусства [Вахтина, 2000, с. 61-62]. Однако приведённые исследовательницей аналогии достаточно далеки от келермесского образа. Кроме того, включённый М.Ю. Вахтиной рисунок с финикийской чаши, скорее всего, передаёт бегущую собаку, что подтверждает тонкий поднятый вверх хвост животного [Вахтина, 2000, рис. 7, 3].
Голова барана, лежащая на крупе козла, ничем не отличается от головы аналогичного животного в секторе 4, разве что здесь изображена бровь и рог украшен двумя парами поперечных линий. В целом её облик ничем не отличается от восточногреческого канона [Максимова, 1954, с. 295], а также и от ближневосточного прототипа, как уже было показано на примере застёжки (кат. 8), диадемы с протомой грифона (кат. 17) и «украшений трона» (кат. 30-31) из Келермеса.
Таким образом, изображения группы I в целом выполнены в русле традиций восточногреческой школы, однако они имеют свои особенности, параллели которым отыскиваются в ближневосточных художественных традициях. Большинство аналогий датируются второй половиной VII в. до н.э., хотя некоторые уходят и в VIII и даже в IX в. до н.э.
Группа II.
В неё вошли фигуры, в изображении которых доминирует влияние изобразительного творчества Ближнего Востока, — это львы (сектора 2, 8), бык (сектор 2), антропоморфные существа, борющиеся с грифоном (сектор 5), медведь (сектор 6) и хищная птица (сектор 6). Согласно мнению М.Ю. Вахтиной, изображение птицы предпочтительнее относить к образцам греческого искусства [Вахтина, 2000, с. 68-69].
(93/94)
Львы, как и пантеры группы I, выполнены различно. Хищник, терзающий быка (сектор 2), имеет более массивную голову и подчёркнуто пышную гриву. Вероятно, в секторе 8 представлены дерущиеся молодые львы, или, может быть, даже самки, как предполагал С.А. Жебелёв [Жебелёв, 1905, л. 35]. Непропорционально укороченные морды львов, раскрытые пасти с высунутыми изогнутыми языками (сектор 8) и пучки волос гривы, трактованные в виде языков пламени (сектор 2), указывают, по мнению Л.В. Копейкиной, на хеттское влияние [Копейкина, 1981]. Согласно точке зрения М.Ю. Вахтиной, изображение хищников сближается с изображением львов Северной Ионии. Основанием для этого служит изображение пучков шерсти между глаз зверей. При этом исследовательница не отрицает происхождение «североионийского льва» от хеттского прототипа [Вахтина, 2001, с. 109-110]. Пожалуй, данный элемент действительно тяготеет к ионийскому искусству. Однако другой отличительный признак — расположение языка — не характерен для традиции ни хеттской, ни ионийской художественной школы, где у зверей высунутые языки обычно огибают нижнюю челюсть. Аналогии келермесскому изображению можно отыскать на предметах из Ирана, Ассирии, Сирии и Урарту [Mallowan, 1966, N74, 75, 393, 394, 541; Akurgal, 1968, Abb. 20, 21, 67, 78]. Поэтому в поисках соответствий львам на зеркале большее внимание стоит уделить «ассирийским» и «сиро-финикийским» хищникам, у которых тоже укороченные морды, грива состоит из рядов пламевидных языков и из распахнутых пастей высовываются изогнутые языки [Mallowan, 1966, N393, 394]. О близости к этому кругу памятников свидетельствует и стилизация волосяного покрова на крупе и брюхе в виде «ёлочек», наблюдаемая на изображении волка на келермесской чаше (кат. 36-37), орнаментация которой выдержана в ключе новоассирийского искусства.
Сцена борьбы хищника с травоядным животным была очень популярна в Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Совершенно правильно М.И. Максимова оспаривала выводы X. Пейна и К. Шефольда, связавших группу на зеркале с искусством материковой Греции [Максимова, 1954, с. 291]. Исследовательница считала, что восточногреческая традиция окончательно сформировала композиционную схему этого сюжета лишь к первой четверти VI в. до н.э. [Максимова, 1954, с. 292]. Такую неоправданно позднюю датировку опровергла Л.В. Копейкина, отнеся сложение композиции к 640-620-м гг. до н.э. [Копейкина, 1981]. Однако, если принять во внимание нижнюю дату изображений ойнохои с о. Родос — 650-600-е гг. до н.э. [Walter, 1971, Taf. 122, 601], то нельзя исключить и середину VII в. до н.э. Несмотря на несомненную близость сцен на ойнохое и зеркале, у них имеется существенное различие — росписи расположены значительно свободнее. Подобная «разряжённость» просматривается на фризе колесницы около 550 г. до н.э. из Монтелеоне [Richter, 1915, N40], упомянутой М.И. Максимовой и Г.И. Боровкой в качестве параллели [Боровка, 1922, с. 201; Максимова, 1954, с. 291], и на сосуде VII в. до н.э. из Вульчи [Gehrig, Niemeyer, 1990, Abb. 24]. Вместе с тем тесное смыкание фигур дерущихся животных часто фиксируется на памятниках Ближнего Востока [Bessert, 1951, Abb. 460; Parrot, 1960, fig. 168d; кат. 36-37]. К этому следует добавить, что львы на античных предметах, в отличие от «ассирийских» хищников VIII в. до н.э. [Матье, Афанасьева, Дьяконов, Луконин, 1968, ил. 241], не имеют чётко выделенных «бакенбардов», и уши у них не округлые, а остроконечные.
Истоки сюжета двух сцепившихся львов в секторе 8 исследователи находили в ближневосточном художественном наследии [Прушевская, 1917, с. 50-52; Фармаковский, 1920, л. 15-25, 28-29; Иессен, 1947, с. 45; Мак-
(94/95)
симова, 1954, с. 296; Пиотровский, 1959, с. 249-252; Ильинская, 1971, с. 67-68]. Действительно, данная композиция фиксируется на хеттском рельефе XIII в. до н.э. из Язылкая [Bittel, 1934, Taf. XXX], цилиндрической ассирийской печати 1350-1000 гг. до н.э. [The Metropolitan Museum of Art, 1985, fig. 78], луристанских бронзовых булавках и обкладке колчана IX-VII вв. до н.э. [Ghirshman, 1964, ill. 423, 512; Amiet, 1976, N171; Ванден-Берге, 1992, кат. 270]. В греческом искусстве подобная схема появляется, как было показано, не раньше середины VII в. до н.э. [Hogarth, 1908, pl. III, 10; Pfuhl, 1923, Taf. 30, N135]. Воспроизведение её на келермесском зеркале можно связывать с влиянием, пожалуй, только нескольких изобразительных школ: восточногреческой, хеттской и иранской (ассирийская традиция, как правило, не допускала такого тесного смыкания животных).
Фигура быка, входящая в группу II, имеет много общего с каноном восточногреческого искусства второй половины VII в. до н.э. Но сравнительный анализ показывает, что у ионийских быков более удлинённые уши, голова отделена от шеи сплошным «воротником» из складок кожи, а хвост раздвоен и переплетён не по всей длине, а только на самом конце [Копейкина, 1972, рис. 2в, 4б; Mer Egée. Grèce des Iles, 1979, N117] (рис. 97г). Трактовка же хвостов, подобная келермесской, была характерна для сиро-финикийской традиции IX-VIII вв. до н.э. [Mallowan, 1966, N125, 126, 416, 417, 425, 436-438, 452, 550-553; Faslone, 1988, pl. 148; Gehrig, Niemeyer, 1990, Abb. 17]. Видимо, из неё данный элемент и был заимствован автором орнаментации зеркала. Приём передачи складок на горле и груди быка, а также стилизация уха могли быть почерпнуты из ассирийского искусства [Mallowan, 1966, N250; Матье, Афанасьева, Дьяконов, Луконин, 1968, ил. 234б].
Сцена борьбы антропоморфных существ с грифоном (сектор 5) является продолжением сюжета схватки мифологических персонажей и героев со львами и быками, зародившегося в искусстве Месопотамии в IV-III тыс. до н.э. [Максимова, 1954, с. 296; Афанасьева, 1979, рис. 39, 44, табл. XVIIIв, ХХв]. Привлекает внимание то, что вместо традиционного для Передней Азии льва или быка (редко — антропоморфного существа) на зеркале представлен грифон. Нечто подобное можно усмотреть на бронзовой прорезной пластине IX в. до н.э. из Нимруда, где в роли жертвы выступает сфинкс [Mallowan, 1966, N325] (рис. 99). Сюжет борьбы человека/людей с грифоном широко воспроизводился в финикийском искусстве, однако там он решался в абсолютно иной стилистической манере, чем на зеркале [Clermont-Ganneau, 1880, pl. II-IV; Perrot, Chipier, 1884, fig. 550; Mallowan, 1966, N455, 456, 485, 558, 559].
Необычна на зеркале и трактовка человеческих фигур: тела орнаментированы рядами штрихов, имитирующими густой волосяной покров (как и у всех животных на зеркале). Этим приёмом мастер, вероятно, хотел подчеркнуть прямое отношение «грифоноборцев» к кругу диких существ. Как уже указывалось при анализе келермесского ритона (кат. 38), подобная стилизация волосяного покрова у антропоморфных персонажей встречается в греческом и финикийском искусстве VII-VI вв. до н.э., а также в ассирийском — VIII в. до н.э. Волосы на головах героев уложены подобно причёске богини, а растительность на лицах передана аналогично антропоморфным персонажам ритона (борода аккуратно подстрижена, усы сбриты). Обычай брить усы и оставлять бороды М.И. Максимова отметила в греческой моде VII в. до н.э. [Максимова, 1954, с. 297]. Однако это было принято и на Ближнем Востоке ещё с III тыс. до н.э. [Дьяконов, 1947]. Келермесские изображения можно сопоставить с рельефами и статуей начала I тыс. до н.э. из Северной Сирии [Bossert, 1951, Abb. 464-468, 470-472, 474, 475, 482, 490, 493, 494, 495].
(95/96)
У персонажей сектора 5 и всех представленных на зеркале животных отсутствуют гениталии. Эта иконографическая черта опять-таки фиксируется на ближневосточных изображениях, начиная с эпохи шумеров [Champ-dor, 1964, fig. 28]. Позднее она прослеживается в VIII в. до н.э. в Ассирии [Mallowan, 1966, N12] и только в VII в. до н.э. проникает в восточногреческое искусство [Poulsen, 1912, Abb. 179].
Несколько замечаний необходимо сделать о позах грифона и его противников. Чудовище показано в том же положении, что и дерущиеся львы (сектор 8), только голова его обращена назад, «грифоноборцы» размещены аналогично сфинксам у колонны (сектор 3), правда, смотрят они прямо перед собой. Данный канон сложился на Ближнем Востоке ещё в III тыс. до н.э. [Афанасьева, 1979, табл. XVIIIв, рис. 39, 44], а затем получил развитие в искусстве Сирии, Финикии, Ассирии, Ирана IX-VII вв. до н.э. [Ghirshman, 1964, ill. 88, 91; Mallowan, 1966, N373, 539].
Особое место в группе занимают фигуры медведя и хищной птицы (сектор 6). В отличие от других изображений, на эти мотивы восточногреческая стилистика не оказала никакого влияния или повлияла незначительно. Ещё М.И. Максимова отмечала, что медведь не встречается в греческом архаическом искусстве [Максимова, 1954, с. 292]. Между тем, как указывал С.А. Жебелёв, данный зверь часто фигурировал в античной мифологии и топонимии, связанной с севером Малой Азии [Жебелёв, 1905, л. 27-28]. М.Ю. Вахтиной удалось обнаружить два архаических греческих изображения, напоминающих медведей [Вахтина, 2000, рис. 8, 1, 2]. Но, как пишет сама исследовательница, видовое определение их достаточно спорно [Вахтина, 2000, с. 64]. Напротив, искусство древнего Востока оставило целый ряд образцов этого мотива (шумеры [Флиттнер, 1958, рис. на с. 75; Champdor, 1964, Abb. 83; Афанасьева, 1979, T. XXIa], египтяне [Müller-Karpe, 1980, Taf. 13, A3; Бернхардт, 1982, рис. на с. 28, 43], финикийцы [Фармаковский, 1914, Т. XXVII, 3]). Медведь известен и в евразийском зверином стиле [Гапоненко, 1963, рис. 46, в; Артамонов, 1973, ил. 10, 11; Moorey, Bunker, Porada, Markoe, 1981, N934]. Однако изображение на зеркале выполнено определённо не в скифо-сибирском стиле, поэтому наиболее вероятно, что мотив был заимствован из сиро-финикийской художественной традиции.
Летящая хищная птица не имеет точных аналогий ни в греческом, ни в ближневосточном, ни в скифском искусстве. Главным её отличительным признаком является серповидная форма крыльев. М.Ю. Вахтина указала сходные изображения на подвесках и золотом сосуде из Марлика (Иран), но всё же отнесла келермесский мотив к греческому искусству, связав его с микенским образом женщины-птицы [Вахтина, 2000, с. 68-69].
Некоторую параллель летящей птице можно усмотреть на рельефах каменного сосуда начала III тыс. до н.э. из Хафадже [Parrot, 1960, fig. 168d] и золотых бляшках XX-XIX вв. до н.э. из Египта [Aldred, 1978, ill. 15]. Однако сами изображения на этих памятниках настолько схематичны, что не могут быть сопоставлены с келермесской фигурой. Принимая во внимание то, что приведённые относительные подобия происходят с Ближнего Востока, вероятно, можно относить образ на келермесском зеркале к заимствованиям из восточного художественного наследия.
Как показывает стилистический обзор, изображения группы II выполнены в русле канонов ближневосточного творчества IX-VII вв. до н.э. Особо сильно сказывается влияние сиро-финикийского, ассирийского, возможно, иранского и хеттского искусства. Воздействие восточногреческой художественной традиции ощущается в незначительной степени.
(96/97)
Группа III.
В эту группу входят кабан (сектор 2), пантера (сектор 3) и баран (сектор 4), которые связываются со скифским звериным стилем. Только у данных животных показаны выемка на бедре и выступ на спине, образованный плечом, — детали, характерные для древнекочевнической художественной традиции 1. [46] Зверь в секторе 3 — единственный персонаж, тело которого не орнаментировано. Он, по точному определению М.И. Максимовой, является явным подражанием скифским кошачьим хищникам [Максимова, 1954, с. 299] (рис. 100). Он имеет массу аналогий, наиболее точными из которых являются фигуры на золотой пластине от горита/налучья из Келермеса [Piotrovsky, Galanina, Grach, 1986, pl. 23]. При сравнении пантер на зеркале и пластине удивляет совпадение едва заметного признака: ступни передних лап представляют незамкнутые петли, ступни же задних лап — кольца. Однако кошачий хищник на зеркале — далеко не точная копия скифо-сибирского типа, о чём свидетельствует наличие орнаментированного шишковидного окончания хвоста, слезницы глаза и полосы, подчёркивающей полость живота, — элементов, чуждых творчеству древних кочевников.
Ещё более отдалены от прототипов фигуры кабана и барана. У животных штриховкой показана шкура и линией выделена полость живота. К тому же у кабана нанесены поперечные штрихи, делящие задние ноги, и изображён длинный витой хвост. Но позы зверей полностью соответствуют скифским канонам [Максимова, 1954, с. 295-296, 298]. Параллелью фигуре кабана служат изображения на келермесской секире (кат. 5) и костяной бляшке из Эфеса [Hogarth, 1908, pl. XXV, 3а], сделанных нескифскими мастерами, а среди памятников скифо-сибирского стиля — петроглифы на оленном камне из Аржана [Грязнов, 1980, рис. 29, 2] и рисунки на костяном навершии из Сакар-Чага [Яблонский, 1996, рис. 5].
Лежащий баран с плотно прижатыми подогнутыми ногами и вытянутой вперёд головой имеет множество подобий в евразийском зверином стиле. Однако в архаический период в такой композиционной схеме изображались в основном олени и козлы. Несмотря на то что в Келермесе было найдено бронзовое зеркало, ручка которого увенчана фигурой лежащего животного, напоминающего барана [Галанина, Алексеев, 1990, рис. 9, 6], всё же следует отметить нетипичность этого мотива для ранней скифской культуры. По-видимому, торевт, украшавший серебряное келермесское зеркало, использовал привычный ему образ, но передал его в скифской манере.
Таким образом, в группу III входят как изображения с отдельными элементами звериного стиля (поза, выступ на спине, выемка на бедре) (кабан, баран), так и просто копия древнекочевнического образа (пантера). Датировка их затруднена из-за недостаточно дробной разработки памятников искусства скифской архаики.
Такие декоративные мотивы зеркала, как четырёхрядная плетёнка (сектор 5), розетка (центр), колонка (сектор 3) и рубчатые пояски (границы секторов), скорее всего, заимствованы из восточногреческого искусства, хотя утверждать однозначно это пока нельзя. Ещё М.И. Максимова связывала плетёнку с хеттским искусством и подчёркивала, что косое расположение завитков встречается только на тех греческих памятниках, кото-
(97/98)
рые подверглись сильному воздействию изобразительных традиций Ближнего Востока [Максимова, 1954, с. 286]. Ближайшей параллелью келермесскому мотиву, по-видимому, является роспись горла ойнохои Леви (ок. 650-640 до н.э.) [Mer Egée. Grèce des Iles, 1979, N78]. 16-лепестковые розетки с удвоенным контуром довольно часто использовались на изделиях различных художественных школ древнего мира. В качестве примеров можно привести орнаменты на бронзовых наконечниках осей от колесниц конца IX — начала VIII в. до н.э. из Урарту [Merhav, Seidl, 1991, N11, 12b, 21, 22], a также на костяных пластинах из Зивие [Ghirshman, 1979, pl. XII, 2] и с о. Самос [Freyer-Schauenburg, 1966, Taf. 9]. Розетки же, имеющие треугольные язычки между лепестками, — мотив достаточно редкий. По мнению Л.В. Копейкиной, он обычно встречается на родосско-ионийских сосудах так называемой «группы Лондонского диноса», относящихся к 640-600-м гг. до н.э. и связанных с североионийскими мастерскими [Копейкина, 1981]. Как отмечает М.Ю. Вахтина, в настоящее время установлено, что сосуды «группы Лондонского диноса» производились в Эолии [Вахтина, 2001, с. 109]. Однако и в этом случае нельзя полностью отвергать влияния Ближнего Востока. Так, на келермесском сосуде, декорированном в ассирийской традиции (кат. 35-36), наблюдается явная параллель для зеркала: на дне внутренней чаши представлена 16-лепестковая розетка с удвоенным контуром, а край внешней чаши украшен двойными язычками, помещёнными между выпуклыми каплями.
Колонка с капителью уже рассматривалась при анализе келермесского ритона (кат. 38). Была установлена её близкая связь с протоионическим ордером. В данном случае можно упомянуть аналогию, представленную на критском сосуде 640-630-х гг. до н.э. [Mer Egée. Grèce des Iles, 1979, N75], и, вслед за М.Ю. Вахтиной, сослаться на североионийские параллели [Вахтина, 2001, с. 110]. При этом необходимо подчеркнуть, что образцом для деталей ордера и элементов росписей послужили ближневосточные памятники [Пичикян, 1984, с. 67-68].
Рубчатые полосы, ограничивающие сектора, находят близкие подобия на кувшине VII в. до н.э. из Ларисы на о. Гермос [Максимова, 1954, с. 286], украшениях 640-620-х гг. до н.э. с о. Родос [Mer Egée. Grèce des Iles, 1979, N92-96] и большинстве архаических греческих гемм [Furtwängler, 1900, S. 286], а также на золотой пластине из Зивие [Ghirshman, 1964, ill. 386], бронзовой пластине X-IX вв. до н.э. и серебряной рукоятке кинжала VIII-VII вв. до н.э. из Луристана [Ghirshman, 1964, ill. 386; Ванден-Берге, 1992, кат. 270].
Таким образом, все изображения келермесского зеркала выполнены в стиле, характеризующемся яркой эклектичностью. Большинство его элементов находят параллели среди родосско-ионийских памятников искусства. Однако на предмете отсутствует одна из основных особенностей родосско-ионийской школы — заполнение свободного пространства розетками, свастиками, крестами, полукружьями и треугольниками. Кроме того, ряд изображений зеркала имеют аналогии в художественных течениях Ближнего Востока. Наиболее сильное влияние оказало сиро-финикийское искусство, несколько меньшее — ассирийское и в минимальной степени — хеттское и иранское (рис. 101). Создатель декора келермесского зеркала, по всей видимости, был выходцем из Малой Азии (фригиец? лидиец?). Предмет, изготовленный в кочевнической среде, он украсил по скифскому заказу, что доказывается включением в орнаментацию фигур, имитирующих образы звериного стиля.
Как считает М.Ю. Вахтина, пластины зеркала были изготовлены из «природного электра, добытого из вод лидийской реки Пактол». Мастер,
(98/99)
украсивший ими серебряный диск, мог быть выходцем из этого региона. Работал он в самой Лидии или же, «прихватив с собой инструменты и кое-какие материалы», — при скифской ставке в Прикубанье [Вахтина, 2000, с. 57-58]. В целом такое предположение выглядит правдоподобно. Большие сомнения вызывает только перенос деятельности торевта в Прикубанье. В этом случае остаётся констатировать удивительную невосприимчивость мастера к окружающим его произведениям звериного стиля, выразившуюся в малочисленности образов скифского искусства, воспроизведённых им на зеркале, и в существенных ошибках, сделанных при копировании.
Использованные в исследовании аналогии датируются широким периодом — IX-VII вв. до н.э. Сузить его позволяет непосредственная близость изображений на зеркале к росписям родосско-ионийских сосудов второй половины VII в. до н.э. Согласно существующему мнению, образцом для родосско-ионийской вазописи послужили произведения торевтики [Копейкина, 1971, с. 82-100]. Одним из таких предметов, по мнению Л.В. Копейкиной, могло оказаться келермесское зеркало [Копейкина, 1981], изготовление которого следует относить к 670-640-м гг. до н.э.
^ «Обруч» из Криворожского кургана (кат. 47). Этот крупный предмет (диаметр 26,5-28,0 см) изготовлен из золотой ленты, сомкнутой в кольцо. Края отогнуты наружу и украшены напаянной рифлёной проволокой. Таким же образом отделан стык ленты.
Отдельное исследование «обруча» провела А.П. Манцевич, которая пришла к выводу, что он использовался в качестве венца, надевавшегося на шлем. Но так как ни один из известных скифских шлемов не подходил для этого (по причине овальной в плане формы), то она высказала предположение о бытовании у скифов конусовидных боевых головных уборов, не дошедших до наших дней [Манцевич, 1959, с. 61-64]. Согласно другой версии, предмет является подставкой для сосуда [Манцевич, 1958, с. 196]. Эта точка зрения представляется более правдоподобной. По крайней мере, тогда находят объяснение такие особенности конструкции «обруча», как отогнутые края, которые создают «ребра жёсткости», и рифлёная проволока, назначение которой — не только декорировать вещь, но и закрывать опасные острые края ленты, что было необходимо при перемещениях сосуда.
Точных аналогий криворожской находке не известно. По форме она несколько напоминает золотой ленточный браслет II тыс. до н.э. из Библа [Maxwell-Hyslop, 1971, pl. 71], а также урартские бронзовые пластинчатые пояса, хомуты и детали мебели VIII-VII вв. до н.э. [Merhav, Seidl, 1991, N55; Kellner, 1991, fig. 1-6, N2-17; Merhav, 1991, N7b, 8b]. Наиболее близки «обручу» детали мебели, так как они неразъёмны и имеют отогнутые края (рис. 57).
Особый интерес вызывают знаки, нанесённые вдавленной линией с внутренней стороны предмета. Один из них представляет собой овал со слегка заострённым концом, увенчанный двумя дуговидными антеннами. Вся фигура отдалённо напоминает голову рогатого животного. Другой знак — это окружность, к которой сверху примыкает контурная голова хищной птицы. Рядом располагается точка (рис. 102) 1. [47]
До сих пор знаки не дешифрованы из-за отсутствия чётких соответствий в древней иероглифике. А.Ю. Алексеев высказал предположение, что
(99/100)
они относятся к урартскому письму [Алексеев, 1992, с. 54]. На настоящий момент нельзя безоговорочно ни принять, ни отвергнуть это заключение. Урартские иероглифы, как правило, более реалистично передают образы голов зверей и птиц [Vanden Berghe, De Meyer, 1983, cat. 55-56, 145]. Ho в то же время известны и крайне схематичные знаки, нанесённые на урартские памятники VII в. до н.э. [Vanden Berghe, De Meyer, 1983, N148].
С некоторыми оговорками можно принять, что «обруч» из Криворожского кургана был изготовлен в Урарту в VII в. до н.э. и служил подставкой для культового (?) керамического (?) сосуда. Скифы, получив его в качестве трофея или дани, несомненно, нашли ему какое-то иное применение. Очевидно, и урартские знаки были переосмыслены новыми владельцами. Они могли восприниматься как тамгообразные символы (формирование тамг в кочевнических культурах, видимо, нужно связывать со скифским периодом) 1. [48]
Несколько неожиданной параллелью знаку в виде окружности с головой птицы являются золотые бляшки из Литого кургана [Придик, 1911, табл. II], у которых достаточно тщательно проработанная голова покоится на предельно схематичном туловище, контур же крыльев и хвоста почти смыкается в круг (рис. 103) 2. [49] Вероятно, идея, зашифрованная этим знаком, воплощена и на бронзовом зеркале из с. Герасимовка в Поднепровье [Ильинская, 1968, табл. XLVI, 1], где тыльная сторона предмета украшена головой птицы, а окружность мог символизировать сам диск.
Не исключено, что дальнейшее развитие схемы криворожских иероглифов демонстрируют бронзовые бляшки из кургана у с. Берестняги (Поднепровье) и с городища у с. Басовка (Посулье). Бляшки представляют собой три состыкованных полукружья (трансформация заострённого овала или подтреугольника), увенчанные дуговидными выступами с птичьими головами [Ковпаненко, 1981, рис. 61; Ильинская, Тереножкин, 1983, рис. 22 на с. 341] (рис. 104).
Наличие знаков и само место захоронения «обруча» (жертвенно-поминальный комплекс) позволяют предположить, что в скифской среде он использовался в качестве культового предмета.
^ [ Итоги. ]
Подводя итоги проведённого исследования памятников торевтики, можно сделать вывод, что одни из них являлись частью материальной культуры населения Ближнего Востока и были заимствованы кочевниками, подвергаясь иногда частичной переделке. Целый же ряд вещей были изготовлены специально для кочевнических заказчиков. В результате наметились следующие группы вещей, первую из которых образуют предметы, типологически не связанные со скифской культурой, но тем не менее, использованные новыми владельцами практически по их прямому назначению. Сюда входят: скамеечка из Литого кургана (кат. 26-29), серьги из ст. Крымская и с. Нартан (кат. 20-25), II ритон (кат. 40), блюдо из Люботинского кургана (кат. 37), чаша из Новозаведённого кургана (кат. 38), наконечник от скипетра (?) (кат. 45), диадема с протомой грифона (кат. 17) и диадема с цветками (кат. 15) из Келермеса, обойма из х. Красное Знамя (кат. 43).
Во вторую группу входят вещи, также нехарактерные для кочевников, но переделанные и приспособленные ими применительно к своим запросам. В первую очередь, это диадема из Литого кургана (кат. 18). Возможно, к данной серии относятся фрагмент пластины от диадемы из Литого
(100/101)
кургана (кат. 19), «обруч» (кат. 47) и голова бычка (кат. 41) из Криворожского кургана, протома бычка из Люботинского кургана (кат. 42), голова льва от II ритона (кат. 34), две львиные головы (кат. 32-33) и «украшения трона» (кат. 30-31) из Келермеса 1. [50]
Третья группа состоит из предметов, изготовленных ближневосточными мастерами для кочевников. Среди них встречаются изделия, типологически ближневосточные, но с использованием в орнаментации элементов скифского искусства, и вещи кочевнического типа. Первые представлены двойным сосудом (кат. 35-36), диадемой с птицами и розетками (кат. 16) и навершием в виде оленя (кат. 44) из Келермеса. Ко вторым относятся мечи в ножнах из Литого кургана и Келермеса (кат. 1-4), застёжки из Литого кургана, Келермеса, Журовки, Темир-Горы, Ногайска (кат. 6-12), бляхи в виде оленя и пантеры из Костромского кургана и Келермеса (кат. 13, 14), секира (кат. 5), зеркало (кат. 46) и I ритон (кат. 39) из Келермеса.
Как показал анализ памятников торевтики, в первую группу вошли изделия, характерные для культур Ассирии и Урарту и в меньшей степени — государств Малой Азии и Сирии. Во второй группе тоже преобладают ассирийские вещи, несколько меньше урартских предметов и самую незначительную долю составляют северосирийские и малоазийские изделия. Большинство же предметов, ориентированных на вкусы скифов, вышло из рук урартских, иранских и малоазийских мастеров. На этих вещах только отчасти ощущается влияние ассирийских торевтов.
Изучение памятников третьей группы наводит на уже высказывавшуюся рядом исследователей [Иессен, 1947, с. 44; Ghirshman, 1964, р. 98-113; Черников, 1965, с. 127; Черненко, 1980, с. 26; Галанина, 1997, с. 102] мысль о том, что скифами в период их «владычества» в Передней Азии была создана мастерская (мастерские?), где работали разноэтничные торевты. Появление мастерской на Ближнем Востоке при ставке кочевнического вождя было вполне естественно в связи с углублением процесса классообразования в скифском обществе и формированием потребностей скифской аристократии в престижных, атрибутивных вещах, подчёркивающих её социальный статус [Хазанов, Шкурко, 1976, с. 43-44]. В качестве косвенного подтверждения существования такой мастерской (мастерских?) служит присутствие «сквозных» стилистических элементов на предметах, выполненных в разных художественных традициях. Так, например, ножны мечей, выдержанные в основном в русле урартского искусства (кат. 1, 4), благодаря фигуре скифского оленя сближаются с ирано-кавказской секирой (кат. 5) и бляхой из Костромского кургана (кат. 14), создатель которой, видимо, происходил из Малой Азии. Кроме того, ножны и секира имеют и другие общие орнаментальные элементы: сочетание «бегущей спирали» и «ёлочного» узора с валиками, воспроизведение фигур с двух сторон предмета в зеркальной симметрии, своеобразную трактовку «древа жизни», «солярный» знак, украшающий лопатки зверей, специфическую стилизацию ушей и шерсти животных, сходство поз антропоморфных персонажей и передачи птичьих ног у монстров, идентичность рогов, глаз и пастей. В свою очередь, секиру можно сопоставить с внутренней чашей
(101/102)
составного сосуда (кат. 35-36), декорированной в ассирийском стиле, по принципу значимости персонажей (первым выступает козёл, вторым — «скифский» олень), а также по изображению «гривы» у волка на чаше, кабанов и зайца (?) на секире. В то же время эта чаша объединяется с серебряным зеркалом (вероятно, изделием малоазийского мастера) (кат. 46) манерой стилизации шкур зверей, воспроизведением подшёрстка на брюхе животных, позами львов, терзающих копытное, подчёркиванием вздыбленной гривы львов, трёхрядной конструкцией птичьих крыльев, удвоенным рисунком лепестков розеток. В свою очередь, на внешней чаше, аналогичной по форме урартским сосудам, украшение из двойных уголков между выпуклыми каплями идентично орнаментальной детали на розетке зеркала. Внутренняя чаша близка и скульптурному наконечнику (кат. 44), сработанному в подражание скифскому звериному стилю, по рисунку рогов оленей. Серебряное зеркало сопоставляется с малоазийской диадемой (кат. 17), ассирийскими «украшениями трона» (кат. 30-31) и застёжкой (кат. 8) по трактовке бараньих голов. А диадема (кат. 17) сходна также с ассирийскими львиноголовыми наконечниками (кат. 32-33) по технологическим элементам (обрамление рифлёной проволокой). Ассирийский же наконечник скипетра (?) (кат. 45) по отделке розетки напоминает бляшки сирийской (?) диадемы (кат. 18).
Конечно, многие из перечисленных признаков являлись общими для большинства ближневосточных художественных школ, но некоторые, повидимому, появились в результате того, что разноэтничные торевты работали вместе бок о бок в одной мастерской.
Как показывает разбор стилистических элементов, использованных в оформлении предметов, рассчитанных на вкусы скифов, большинство из них были заимствованы из урартского, ассирийского и иранского искусства, наименьшая же доля связывается с сиро-финикийской и малоазийской (хеттской, ионийской) художественными школами. Влияние скифского звериного стиля сказывается только в каноничных позах животных и нескольких характерных чертах, скопированных ближневосточными мастерами с изделий этого круга. Можно предположить, что в скифскую мастерскую (мастерские?) были собраны торевты, происходившие из Урарту, Ассирии, Ирана, а также какого-то малоазийского государства (Фригии? Лидии?). Предполагать участие в ней сирийцев или финикийцев не позволяет отсутствие каких-либо псевдоегипетских элементов, которыми так богата сиро-финикийская традиция.
От привлечённых к работе торевтов требовалось соблюдение некоторых основных правил и форм раннескифской культуры. Однако нельзя сказать, что творчество ближневосточных ювелиров было слишком жёстко ограничено и подвергалось сильному давлению. Вполне допускались отклонения от образов звериного стиля, включение в орнаментацию вещей ближневосточных стилистических приёмов и художественных мотивов, понятных кочевникам. По-видимому, в «царской» мастерской создавался официальный, элитарный звериный стиль, достаточно быстро отрывавшийся от своей традиционной кочевнической основы 1. [51] Фигуры животных стали оформляться крупными плоскостями, ограниченными утрированно резкими гранями. Рога оленей начали стилизоваться в виде множества S-видных завитков, напоминающих ветви «древа жизни». Исчезли выступы-горбы на спинах зверей. Появились дополнительные детали (проработка копыт, рифление рогов козлов и баранов, трактовка стоп
(102/103)
хищников в виде птичьих голов, подчёркивание волосяного покрова и т.п.). Изделия в этом несколько модифицированном зверином стиле послужили образцами для последующего копирования уже скифскими мастерами [Хазанов, 1975, с. 79]. Однако кочевники оказались не только «учениками» ближневосточных ремесленников. Будучи грозной агрессивной силой на древнем Востоке, они стали «законодателями моды» на подобные вещи у самого населения региона. Наиболее отчётливо это наблюдается в ахеменидском искусстве, явившемся продолжателем многих традиций звериного стиля.
Несмотря на изменения, происшедшие в древнекочевнической художественной традиции в период пребывания скифов на Ближнем Востоке, всё же нельзя говорить о сложении там нового искусства. Единый элитный скифский стиль в то время оформиться не успел. Об этом свидетельствует удивительное разнообразие трактовок скифских образов, представленных на заказных вещах. По сути, каждое изделие выполнено в собственной эклектичной манере, и объединяет их только общая идея и эстетическая ориентация.
[1] 1 Исключением является исследование, упомянутое в книге А.И. Иванчика [Иванчик, 2001, с. 282, примеч. 1] (к сожалению, статья оказалась нам недоступной). Согласно полученным выводам, ножны мечей из Келермеса и Литого кургана были выполнены урартскими мастерами, работавшими в традициях художественной школы эпохи Русы II (695/685-650 до н.э.).
[2] 1 В своё время А.П. Манцевич считала, что рукоятка представляла собой золотую трубку, заполненную мастикой «типа канифоли» или «смесью гипса и извести» [Манцевич, 1962, с. 109, примеч. 4; 1966, с. 37, примеч. 13]. Однако Е.В. Черненко справедливо отверг это предположение, указав, что мастика, очевидно, располагалась только под рельефными орнаментальными фигурами [Черненко, 1987, с. 24-25]. Действительно, до сих пор внутри золотой обкладки рукоятки находится древесный тлен и остатки вещества чёрного цвета, состоящего, по определению химика Гос. Эрмитажа А.Л. Сушкова, из смолы-сандарак, шеллака и воска.
[3] 2 Могильники Хртаноц, Мусиери, Куланурхва, Самтавро [Есаян, Погребова, 1985, табл. XI, 1, 4, 14, 17; XII, 3].
[4] 3 Старшая могила, курган 5 у с. Аксютинцы, курган 12 у с. Волковцы [Мелюкова, 1964, табл. 21, 9, 17, 19].
[5] 1 Видовое определение животных проведено зоологом Г.Ф. Барышниковым.
[6] 1 Появление знака-символа на некоторых изображениях животных может быть отчасти объяснено с помощью текстов нововавилонского царства, согласно которым звездой отмечались только звери из стад богини Иштар [Вязьмитина, 1963, с. 166].
[7] 1 Автор в полной мере сознаёт уязвимость предложенной гипотезы, тем более что находки последних лет из кургана Аржан-2 продемонстрировали вполне сложившуюся схему оленьих рогов на предметах, датируемых раннескифским временем [Чугунов, Парцингер, Наглер, 2002, рис. 16].
[8] 1 Достаточно точные рисунки узды даны в статье Е.В. Черненко [Черненко, 1987, рис. 6, 1-2]. Однако приведённая там же реконструкция [Черненко, 1987, рис. 7] вызывает серьёзные возражения. На ней допущена ошибка: переносье и тонкие ремешки отходят от одной и той же пронизи, тогда как от неё должны отходить только тонкие ремешки. Переносье же или (и?) псалий располагаются гораздо ближе ко рту лошади. Очень сомнительно также присутствие науза и двудырчатых псалиев.
[9] 1 Из раннескифских погребальных комплексов происходит ещё одна подобная бронзовая застёжка [Мурзин, 1984, рис. 84]. Орнаментальные валики на ней располагаются так же, как на застёжке с Темир-Горы (кат. 12) (чередование широких валиков с несколькими узкими), но отсутствуют рубчики и фигурные окончания.
[10] 2 В одном из скифских курганов лесостепного Правобережья Днепра был найден обтянутый золотой фольгой рифлёный браслет с окончаниями в виде львиной (?) головы [Петренко, 1978, табл. 45, 2]. Его орнаментация — чередование узких валиков с широкими руб-
(45/46)
чатыми — напоминает украшение застёжек из Келермеса (кат. 6) и с Темир-Горы (кат. 12). В.Г. Петренко склонялась датировать браслет IV-III вв. до н.э., хотя не исключала и конец VII — начало VI в. до н.э. [Петренко, 1978, с. 56]. По-видимому, данная вещь была приобретена скифами во время походов в Переднюю Азию.
[11] 1 Судя по изображению в работе М.И. Ростовцева «Эллинство и иранство на юге России», утраченная вставка в ноздре копировала вставку в глазу [Ростовцев, 1918, табл. V, 1]. Автор благодарит М.Д. Кузнецову, указавшую ему на эту фотографию.
[12] 1 Относительно формы ушей всё же нельзя исключить влияние древнекочевнического искусства, где на изображающих пантер бляшках из курганов 27 и 33 Уйгарака можно предположить нечто подобное [Вишневская, Итина, 1971, рис. 7, 1; 2; 3].
[13] 2 А.И. Иванчик датирует бляшку из Эфеса первой половиной VI в. до н.э. и относит её к группе памятников лидийского происхождения, наследующих традиции архаичных малоазийских художественных школ и не имеющих отношения к кочевническому искусству [Иванчик, 2001, с. 90, 96]. Однако резкое стилистическое отличие «эфесского» кабана от этой группы не позволяет согласиться с такими выводами.
[14] 3 В дополнение к перечисленным нарушениям традиционного образа стоит упомянуть изображения свернувшихся кошачьих хищников, вписанных в хвост и стопы пантеры. Несмотря на «скифский» облик пантерок, их хвосты не закручиваются и не имеют кольцевидных окончаний, чего следовало бы ожидать.
[15] 4 В качестве относительной параллели можно привести золотые бляшки из 5-го Чиликтинского кургана и бляху из Зальдхаломпушты. Уши у казахстанских оленей, а у карпатского ещё и глаз, представляют собой касты, крепящиеся к основе отогнутыми лапками [Черников, 1965, табл. XI; Семёнов, 1965, с. 172; Kemenczi, 1999, kép. 1-2].
[16] 1 Э. Якобсон в качестве главного отличия келермесского грифона от восточногреческого указала различие их налобных выступов: у первого представлен шарик, у второго — шарик на столбике [Jacobson, 1995, р. 146]. В действительности же у протомы на диадеме столбик присутствует, только в результате деформации предмета он оказался вмят внутрь головы грифона.
[17] 2 Исследователями было отмечено, что подтреугольная форма глаз келермесского грифона находит параллель на «украшениях трона» (кат. 30-31) [Галанина, 1993, с. 104], а также на памятниках искусства Урарту и Луристана [Amandry, 1966, S. 891]. Но это соответствие далеко не точно. Глаза у грифона более округлы, и их абрис приближается, скорее, к форме миндалины. К тому же на них намечены слезницы, чего нет у львов на «украшениях трона», урартских и луристанских предметах.
[18] 1 Правильность идентификации подтверждена находкой в гробнице III Алтын-Тепе, датируемой временем Аргишти II (ок. 714-685 до н.э.), бронзовых деталей табурета, среди которых были два подобных соединения, правда, прямоугольной формы [Merhav, 1991, N8a, b] (рис. 57).
[19] 2 Крайне сомнительно, что они могли принадлежать балдахину, как это предположила С.С. Бессонова [Бессонова, 1990, с. 33].
[20] 1 Не исключено, что отсутствие продолжения лепестков на гладких частях предметов является хронологическим признаком, поскольку с IX в. до н.э. и по конец VIII в. до н.э. они обычно фиксируются.
[21] 1 Относительность этих утверждений очевидна, поскольку на ассирийских рельефах VIII в. до н.э. изображены украшенные львиными головами как парадные табуреты, так и кубки [Ghirshman, 1964, ill. 403; Selon-Williams, 1981, Abb. 136; Curtis, 1988, fig. 78].
[22] 2 По мнению Л.К. Галаниной, опиравшейся в своем исследовании на работу П. Якобсталя, здесь представлены плоды граната [Галанина, 1991, с. 16]. С этим не согласен Ф.Р. Балонов, доказывающий, что образцом могли послужить только коробочки опийного мака [Балонов, 1992, с. 169]. Вероятно, следует принять обе точки зрения, так как точное видовое определение растения крайне затруднительно из-за схематичности скульптур. К тому же сходные мотивы в древнем искусстве часто передавали некий усреднённый образ мака-граната.
[23] 1 Характерная черта львиных голов на «украшениях трона» — трапециевидная фигура на лбу — находит параллели на памятниках различных художественных традиций, относящихся к широкому хронологическому промежутку: от керамического ритона XVII-XVI вв. до н.э. с о. Фера [Древнее искусство греческих островов Эгейского моря, №20] — до греческих пантер VII-VI вв. до н.э. [Копейкина, 1972, рис. 4а; Richter, 1930, pl. IX, fig. 30].
[24] 2 Возможно, «украшения трона» являлись составной частью предмета, отдалённо напоминавшего урартские канделябры конца IX-VII в. до н.э. [Vanden Berghe, De Meyer, 1983, Afb. 48c; Rivka, 1991, №11a].
[25] 1 Косвенным подтверждением может служить устойчивая традиция изготовления составных сосудов на Ближнем Востоке и в Закавказье: золотой кубок II тыс. до н.э. из Триалети [Тавадзе, Баркая, 1954, с. 364-368, рис. 9], золотая ахеменидская амфора V в. до н.э. из Филипповского кургана 1 [The Golden Deer, 2001, fig. 93], золотая чаша IV-III вв. до н.э. из Ирана (?) [Иванов, Луконин, Смесова, 1984, с. 22, №[27]31], серебряные с позолотой византийские братины XII-XIII вв. н.э. [Банк, 1938, с. 256-260; Даркевич, 1975, с. 63, 81, №3, 4], серебряная с позолотой чаша XV в. н.э. из Грузии [Jewellery and Metalwork 1986, pl. 216].
[26] 1 He исключено, что на рельефе из Адылджеваза показан сосуд того же типа.
[27] 2 Среди археологов сложилось мнение, что это дрофы [Смирнов, 1909, с. 4; Иессен, 1947, с. 46; Манцевич, 1961, с. 334; Артамонов, 1962, с. 21]. Но тщательный анализ изображений, проведённый орнитологами И.А. Нейфельд и В.М. Лоскотом, позволил определить их как страусов.
[28] 3 Определения зверей сделаны зоологом Г.Ф. Барышниковым.
[29] 4 На рисунке, выполненном М.В. Фармаковским, этот зверь реконструирован как кабан. Однако, судя по густой шерсти животного, здесь, скорее всего, изображён баран, как указывали А.Ю. Алексеев и Л.К. Галанина [Галанина, 1991, с. 20].
[30] 1 Сходный рисунок выполнен на «бакенбардах» львов с «украшений трона» из Келермеса (кат. 30-31).
[31] 2 Описанные два признака келермесского изображения льва находят параллель на рельефе первой половины IX в. до н.э. из Нимруда [Barnett, 1975, pl. 32]. Но общий облик обоих зверей имеет много существенных отличий.
[32] 1 Вызывает возражение датировка псалия. Передача туловища оленя в виде рельефных линий, создающих «8»-образную фигуру, находит параллель на изображении козла на бронзовой бляшке IV-III вв. до н.э. из Гилгита (Северо-Восточный Пакистан) [Литвинский, 2000, рис. 5, 3].
[33] 2 Наверное, именно изображения оленей подтолкнули М.И. Ростовцева к утверждению, что нижний пояс фигур на чаше выполнен в скифском зверином стиле [Ростовцев, 1925, с. 341].
[34] 1 Определение сделано зоологом О.Р. Потаповой, которой автор приносит глубокую благодарность.
[35] 1 Рисунок, приведённый в статье Д.Г. Савинова, неточен [Савинов, 1987, рис. 17, 8]. Ближе к действительности иллюстрация в работе М.И. Максимовой [Максимова, 1956, рис. 5], хотя и на ней не показано второе копыто оленя.
[36] 1 Технологический анализ был проведён Р.С. Минасяном и А.Ю. Алексеевым.
[37] 1 Предмет вошёл в группу вещей, не имеющих чёткой атрибуции, из-за отсутствия на сегодняшний день точного определения его назначения: туалетная принадлежность? инструмент для гаданий? культовый сосуд? полифункциональный объект?
[38] 2 Этнография позволяет предположить различные виды гаданий, которые можно связать с вещью из Келермеса, например, бросание зеркала, разглядывание отражения, изучение тыльной стороны, наполненной жидкостью [Михайлов, 1987, с. 83].
[39] 3 Карта распространения зеркал обоих типов приведена в работе Т.М. Кузнецовой [Кузнецова, 1991, с. 35-36, карта №2].
[40] 1 Аналогичный литейный брак наблюдается на зеркале с Северного Кавказа [Галанина, 1985, рис. 3, 13].
[41] 1 Все технологические исследования были проведены Р.С. Минасяном.
[42] 1 Определения животных сделаны на основании консультаций с зоологами Г.Ф. Барышниковым, О.Р. Потаповой и А.К. Каспаровым.
[43] 1 У одной из женщин, представленных на панцире, одеяние аналогично платью келермесской богини и отличается только орнаментом в виде розеток.
[44] 2 Л.В. Копейкина видела в завивающихся прядях келермесских антропоморфных существ влияние ассиро-вавилонского искусства [Копейкина, 1981].
[45] 3 Согласно мнению М.Ю. Вахтиной, келермесская богиня генетически восходит к образу минойского женского божества [Вахтина, 2000, с. 68].
[46] 1 А.Р. Канторович справедливо отвергает специфически скифо-сибирскую принадлежность элемента «горбика» [Канторович, 2001, с. 212]. Однако любой характерный признак памятника искусства, не вырванный из контекста, а рассмотренный в комплексе с другими, может помочь в установлении художественной традиции, к которой тяготеет данное произведение.
[47] 1 А.П. Манцевич упоминала ещё и «гравированные штрихи» [Манцевич, 1959, с. 59], но это, скорее всего, просто царапины.
[48] 1 Некоторые соответствия знаку в виде головы рогатого животного встречаются среди сарматских, кавказских, западно-европейских, тувинских тамг [Вайнштейн, 1974, рис. 985; Лавров, 1978, табл. II; Яхтанигов, 1993, с. 26; с. 136, №15; с. 137, №51; с. 142, №509; с. 175, №16, 17].
[49] 2 Это совпадение отмечала уже А.П. Манцевич [Манцевич, 1959, с. 72].
[50] 1 Пластина могла быть переиспользована, поскольку сломалась, по-видимому, ещё до того, как попала в курган, а вторая её часть при раскопках не была найдена. Крайне сомнительно утилитарное применение скифами «обруча» в качестве подставки для керамического сосуда. Наконечники в виде голов животных не могли находиться в погребениях непосредственно на предметах мебели и на посуде, иначе были бы обнаружены и другие составляющие детали, а также во многих из них остались бы окислы от элементов крепежа. «Украшения трона» с тыльных сторон покрыты знаками, которые, очевидно, были нанесены уже после демонтажа вещей.
[51] 1 Происходивший процесс не был каким-то феноменальным явлением. Подобным образом создавались многие элитные изобразительные традиции, в частности «имперский ахеменидский стиль» [Луконин, 1987, с. 84-86].
|