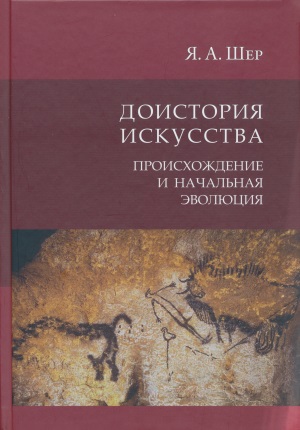 Я.А Шер
Я.А Шер
Доистория искусства:
происхождение и начальная эволюция.
// М.: «Издательский Дом ЯСК». 2017. 232 с.
ISBN 978-5-9908826-0-7 (1-е изд., РФФИ, не для продажи)
ISBN 978-5-94457-291-2 (2-е изд.)
Глава 6. Первобытное искусство и эстетика.
В большинстве научных и популярных сочинений почти всегда рядом с понятием «искусство» стоит понятие «эстетика», чем в явной или неявной форме постоянно подразумевается некая рефлексия, которую мы называем чувством прекрасного. При всём разнообразии и даже несовместимости существующих гипотез о происхождении искусства, у них есть, по крайней мере, два общих места:
1) всегда активно подчёркивается историческое, социальное происхождение искусства, и довольно редко (как правило, не археологами и не искусствоведами) рассматривается психофизиологическая, не социальная, а естественноисторическая, т.е. природная, основа изобразительной деятельности;
2) появление искусства обычно связывают с чувством прекрасного. Пока ещё многие из нас уверены, что рукой кроманьонца, который расписал стену пещеры или вырезал статуэтку женщины, двигало чувство прекрасного. Широко распространено мнение или даже постулат о том, что осознание красоты было присуще уже нашим эволюционным предкам и что основой, на которой взросло древо искусства, наряду с трудом, были эстетические представления.
В философском контексте, при определённом разнообразии подходов, большинство мыслителей от Пифагора, Платона и Аристотеля до Канта, Шиллера и наших современников согласны с утверждением Канта «прекрасно то, что нравится всем» и, можно добавить — «во все времена».
(167/168)
6.1. Красота симметрии и соразмерности. ^
Многие авторы усматривают признаки красоты в правильной, симметричной форме каменных орудий, изготовленных ещё в эпоху мустье. В 1993 г. в Испании, на подъезде к горе Монте-Кастильо, у дороги я разглядывал памятник мустьерскому ручному рубилу, большой муляж с идеально симметричными боковыми гранями (подробнее: Gutiérres, Ceballos 1995: 8). Ф. Боас считал, что наслаждение красотой было присуще всем древним людям, охваченным «страстным желанием делать вещи, доставляющие наслаждение, что невозможно провести грань между искусством и неискусством» (Boas 1955: 10). Последние слова в этой цитате не вполне согласуются с предыдущими, поскольку автор не объяснял, что он понимал под «неискусством».
Не менее важно другое: Ф. Боас всё же имел в виду людей современного физического типа (H. sapiens), хотя и отставших в своем культурном развитии, а в некоторых публикациях предполагается, что чувство красоты уже было присуще неандертальцам или чуть ли не австралопитекам.
А.П. Окладников считал, что «утро искусства» относится ко времени до верхнего палеолита. Он писал: «Если раньше можно было предполагать, что мустьерский культ мёртвых и культ зверя предшествуют искусству верхнего палеолита, то теперь мы знаем, что зачатки художественной деятельности не моложе этих первых проявлений религиозной фантастики. Более того, вопреки утверждениям идеалистически настроенных искусствоведов и философов, ясно, что религия не была почвой для искусства и не из неё исходили стимулы, вызвавшие к жизни первоначальную художественную деятельность. На самом деле истоки художественной деятельности коренятся в том, что составляет сущность и основу искусства, — в творческой фантазии и в способности наслаждаться прекрасным — в эстетическом чувстве… Одной из конкретных важнейших предпосылок для возникновения новой художественной формы деятельности явилось накопление технического опыта в производстве орудий, и прежде всего в обработке основного для той эпохи материала — камня… Прямое, непосредственное давление потребностей общественного производства, материальной практики, физического труда оказалось стимулом, повлиявшим на возникновение не только различных видов изобразительного искусства, но и таких форм художественного творчества, как пение, танец, зачатки инструментальной музыки» (Окладников 1967: 30-32; см. также гл. 1 в этой книге).
В научно-популярной книге «Утро искусства» Окладников стремился показать, что происхождение искусства не связано с религией (тогда эта тема
(168/169)
имела политическую актуальность), но в борьбе с религиозным идеализмом, незаметно для себя, он сам оказался почти на тех же позициях, видя сущность и основу искусства в «творческой фантазии и в эстетическом чувстве». В этой концепции не оставалось никакого места объективным природным, в том числе и психофизиологическим факторам, которые вызвали к жизни сначала знаковую деятельность и, как её часть, фигуративные и абстрактные изображения. Только потом, когда эта деятельность стала вполне осознанной, могли возникнуть стимулы и нормы эстетического характера.
Близкая неопределённость представлена и в книге М.С. Кагана: «искусство рождается как художественное осмысление, преобразование, “оформление” разнообразных способов практической деятельности первобытного человека» (Каган 1971: 180). В целом с этим можно согласиться, но самое главное — как оно рождается — осталось в тени.
Общие рассуждения Э. Гомбриха о палеолитической пещерной живописи и мелкой пластике, основанные на публикациях А. Леруа-Гурана, в значительной мере устарели, особенно его попытки предложить «исправления» датировок, сделанных до создания метода AMS. Во «Введении» он писал: «Это искусство позднего кайнозоя, [17] вначале такое неумелое и неуверенное, достигло потом самых высоких вершин» (Gombrich 1989: 11). В этих рассуждениях явно просматривается наследие эволюционной философии: развитие от неумелого, неуверенного к высотам искусства.
Древнейшими Гомбрих считал изображения шательперрона, хотя таковых, до совсем недавних датировок, вообще не было, если не считать царапин и других отметин на костях. При этом шательперрон датируется 41-39 тлн (Вишняцкий 2008: 133, там же ссылки на первоисточники). По Гомбриху, изображения ориньякского времени (стиль I, по Леруа-Гурану) тоже настолько «неумелые» и «схематичные», что их трудно распознать. Он не соглашался с интерпретацией известного треугольника как знака женского пола и вполне уверенно предлагал передатировать статуэтки «ориньякских венер» более поздним временем (граветт). Он принял новую (для времени выхода первого издания его книги) гипотезу Леруа-Гурана о преднамеренно упорядоченном распределении живописных изображений внутри пещеры (Рафаэль и Ламинь-Эмпрер вообще не упоминаются) как бесспорный факт, хотя она так и осталась недоказанной.
(169/170)
Переходя от одного стиля Леруа-Гурана к другому, Гомбрих описывал их особенности традиционными словами и фразами современного искусствознания. В результате парциальные изображения стиля I характеризуются как «неумелые» и «схематичные». В стиле II он тоже видел несовершенства. Даже стиль III (Ляско) его ещё не удовлетворял диспропорциями между маленькой головой и грузным корпусом животного. И только в стиле IV он увидел реализм почти «фотографический». Иными словами, у Гомбриха неявным образом представлено стремление выстроить некую эволюционную схему на основе чисто субъективных критериев. В более поздних английских, во втором французском и в русских изданиях всё это осталось неизменным (Gombrich 1956/1989; Гомбрих 1998; 2014).
А.К. Филиппов много лет изучал происхождение искусства с точки зрения эстетического восприятия. Но о красоте оптимальных форм ашело-мустьерских орудий он писал как специалист-трасолог и дал, как представляется, более правдоподобное объяснение этому феномену. «…У любого орудия при постепенном износе-заострении происходит своеобразное выравнивание активного участка, когда он одновременно изнашивается и формируется… оптимальная форма наиболее совершенна и не может не замечаться; и как следствие работы орудием с подобной кромкой, несомненно, должно возникать чувство удовлетворения и удовольствия» (Филиппов 2004: 42). Иными словами, дело не столько в эстетике, сколько в технологии.
Близкую, но более жёсткую точку зрения высказали П. Бинан из Национального научного центра (Дордонь, Франция) и Э. Боэда из университета Париж-Х (Нантер). Они писали: «…мы верим в кажущуюся симметрию ашельских рубил, но она так же обманчива, как и утверждение, что симметрия является источником эстетического наслаждения» (Binan, Boëda 2000: 53). M. Конки из университета Бёркли (США) считает, что «когда мы говорим о палеолитическом “искусстве”, мы приписываем предметам эстетический смысл, которого вначале у них, возможно, и не было» (Conkey 2000: 38).
По иронии судьбы католический священник А. Брейль оказался бо́льшим материалистом, чем боровшиеся с религиозными теориями марксисты, особенно те из них, кто стремился быть более ортодоксальными марксистами, чем К. Маркс и Ф. Энгельс. Незадолго до своей кончины, подводя итог своим 60-летним исследованиям, в которых искусство палеолита занимало ведущее место, Брейль писал, что пещерное искусство Западной Европы было вызвано к жизни особыми условиями, в которых обитали здесь охотники ледникового времени. Охота на крупных животных — на мамонта, носорога, бизона, на лошадей и оленей — в условиях больших открытых пространств
(170/171)
способствовала быстрому созреванию целого комплекса глубоких «динамических впечатлений», которые выплеснулись из сознания человека на стены пещер и другие плоские поверхности.
В отличие от охотников франко-кантабрийской области, у жителей побережья Атлантики и Средиземного моря, собиравших улиток и морские ракушки, подобных условий для формирования насыщенных зрительно-эмоциональных перегрузок не было, а поэтому не было искусства.
Брейль учитывал не отдельные факторы внешней среды, а их взаимодействие, их систему. Он понимал, что для рождения искусства мало одной большой охоты со всеми её динамическими нагрузками на психику. В тропических районах Африки была большая охота, но не было большого искусства. Брейль объясняет это тем, что мощная растительность тропиков скрывает из вида человека добычу, которую он преследует.
Искусство, по его мнению, возникает только в условиях совокупного действия всех рассмотренных факторов: большая охота, требующая постоянно совершенствующихся орудий, находчивости и напряжения всех физических и духовных сил; открытые пространства, где преследуемый или нападающий зверь предстаёт перед охотником во всей своей красе и становится источником избыточных зрительных «динамических впечатлений»; глубокие, сравнительно тёплые пещеры, где в промежутках между охотами… происходили обрядовые действия и магические ритуалы, которые должны были способствовать успеху будущих охот.
«Этому благоприятствовал Великий Дух, который управлял природой и благословлял их охотничьи экспедиции. В некоторые обряды, связанные с ними, вмешивалось искусство. Оно изображало желанных зверей и иногда помечало их уже магической стрелой…» (Брейль 1971: 45; см. также Breuil 1957).
Брейль ошибался, предполагая некие «особые условия» в Западной Европе эпохи верхнего палеолита. Находка З.А. Абрамовой в долине Енисея (Кокорево) лопатки вымершего быка с застрявшим в ней роговым наконечником дротика указывает на тот же способ охоты, что и в Западной Европе. Но не это важно в его гипотезе. Самое главное представляется в том, что он едва ли не первым встал на путь поиска объективных факторов, обусловивших появление изобразительной деятельности. Упомянутые Брейлем магические обряды не занимают ведущего места в его гипотезе и не рассматриваются им как предшественники изобразительной деятельности.
Подход, обозначенный Брейлем, представляется очень ёмким. Он не противостоит другим гипотезам и при более детальной проработке мог бы включить
(171/172)
в себя в качестве частного случая и натуральный макет, и роль магии, и прамифологию, и т.д.
К концепции Брейля можно добавить, что условия жизни в суровом климате ледникового периода и большая охота со всеми её динамическими нагрузками на психику при мобилизации всех физических и духовных сил не могли не способствовать действию естественного отбора, который активнее выбраковывал слабых и поддерживал физически и психически сильных.
А. Леруа-Гуран, Л. Нужье, А. де Люмлей и др. вопросами происхождения и эстетики палеолитического искусства специально почти не занимались, если не считать отдельных высоких оценок пещерной живописи, графики и пластики. Большинство авторов принимает эстетические чувства людей эпохи верхнего палеолита как исходно заданные, заменяя научное обоснование понятиями современного искусствоведения (Окладников 1967; Елинек 1983; Столяр 1985; Филиппов 2004 и др.). Не отказывая никому в таком подходе к первобытному искусству, хотелось бы всё же поставить вопрос: если первобытное искусство порождено природным чувством прекрасного, то как и когда сформировалось это чувство? Существовала ли некая «предэстетика» или «праэстетика»? На этот вопрос тоже пока нет однозначного ответа.
6.2. Эстетика и «предэстетика». ^
Изобразительная деятельность существует более 40 тыс.лет. Примерно столько же времени существуют и другие искусства: танец, пение, маскарад (зачатки театра) и т.п. А первые ростки эстетической мысли зафиксированы в древнеиндийской и древнекитайской философии, т.е. примерно 2500 лет назад. Если даже допустить, что в устной традиции они появились намного раньше, и добавить ещё две-три-пять тысяч лет, всё равно этот период будет несоизмерим с временем существования самого искусства. Более чёткие формулировки, чем у древних индусов и китайцев, принадлежат древним грекам — Гераклиту, Платону и в наибольшей мере Аристотелю. А сам термин эстетика как область познания был введён в научный оборот и того позже — в XVIII в. А.-Г. Баумгартнером. Любопытно, что Гегель считал термин «эстетика» неудачным, поскольку эстетика — наука о чувствовании, и предпочитал ему «философию художественного творчества» (Гегель 1968: 7).
Ближе других к этой проблеме подошёл генетик В.П. Эфроимсон. Он собрал и проанализировал большой объём данных по эмоционально-эстетической восприимчивости, начиная с низших уровней дочеловеческого, дообще-
(172/173)
ственного, полуинстинктивного, и лишь затем на более высоких ступенях развития.
Истоки эмоционально-эстетической восприимчивости предопределены генетически. Об этом, например, говорят не только приведённые выше наблюдения М. Мид (см. 4.3), но и результаты исследования И. Эйбл-Эйбесфельдта (Eibl-Eibesfeld 1973), [18] согласно которым есть множество примеров тождества эмоциональных проявлений у так называемых отставших в культурном развитии племён, совершенно не соприкасавшихся друг с другом (цит. по: Эфроимсон 1995: 109). Мало того, об этом же говорят факты о сходстве первичных эстетических реакций шимпанзе и человека (Эфроимсон 1995: 116).
На определённом этапе эволюции эта форма поведения попадает под действие естественного отбора при участии факторов внешней среды: отпугивающая или приманивающая окраска, ночной мрак, голубое небо, огонь и т.д. Возможно, Эфроимсон переоценивал роль естественного отбора в развитии эстетических норм (Эфроимсон 1995: 123-133). В этой проблеме ещё много неясного.
По мнению других профессионалов, современная наука находится в самом начале пути к пониманию того, что представляет собой чувство прекрасного (Симонов 1981; 1993). Если мы плохо понимаем, что такое чувство прекрасного у современного человека, то ещё сложнее понять, каким оно было и было ли оно вообще у наших предков 30-40 тыс.лет тому назад, а у эволюционных предшественников — ещё чуть ли не на миллион лет раньше.
Специалисты-этологи считают некорректным использование человеческого поведения в качестве моделей изучения поведения животных. «Слишком слаба научная база для проведения аналогии между психическими переживаниями человека и животных» (Мак-Фарленд 1988: 479). Сопоставление с поведением животных требует большой осторожности, но сопоставление поведения верхнепалеолитического человека с современным вполне возможно, поскольку их психофизиологическое «устройство» одинаково и, соответственно, нейропсихологические реакции, если не идентичны, то очень близки.
Подводя итог этому рассуждению, было бы более правдоподобно относительно обитателей первобытного мира говорить не об осознании, а об ощущении чувства красоты, из которого спустя много тысячелетий сформировалась эстетика как категория философская.
(173/174)
6.3. Красота как выбор. ^
В данной работе предлагается рассматривать эстетическое восприятие как избирательное, отдающее предпочтение чему-то из окружающей среды. Наблюдения зоопсихологов показывают, что у высших животных есть нечто похожее на такую избирательность. Экспериментами по выявлению предпочтений, например, подтверждается, что животные «асимметрии и хаосу предпочитают упорядоченность и симметрию» (Эйбл-Эйбесфельдт 1995: 30-70).
Говоря «это красиво», мы выделяем какое-то «это» из его окружения потому, что оно возбуждает в нас некую положительную эмоцию. Эксперименты показывают, что избирательное восприятие и механизм предпочтений формируется у большинства видов животных, даже у аквариумных рыбок. У одних видов этот механизм заложен генетически и формируется в естественных условиях, у других — путём приобретения и закрепления условных рефлексов на зрительные, слуховые, обонятельные и т.п. раздражители.
6.3.1. Половой отбор. ^
Одним из оснований, на которых в процессе антропогенеза формировались предпочтения человека, намного позднее получившие название «эстетические», по-видимому, был половой отбор.
До сих пор сохранился такой идеал мужской красоты, при котором рост у мужчины должен быть выше среднего, широкие плечи, узкие бёдра, мускулистая, стройная фигура. С наибольшей выразительностью этот идеал воплотился в греческой скульптуре классического периода, а его основу можно видеть в более ранних фигурах куросов. Идеал женской красоты складывался в европейской культуре как сочетание выразительных вторичных половых признаков (грудь, бёдра) с лицом несколько инфантильного облика. Эти особенности подчёркивались начиная с каменного века, достигли высокого совершенства в эпоху Античности и продолжаются до нашего времени. Отношение к женской красоте с юмором сформулировал популярный писатель. «Искусство во все времена стремилось раздеть женщину, начиная с палеолитической Венеры… С тех пор художники всех стран и времён исхищрялись изобразить женщину всё более голой…» (А. Генис).
Из наблюдений над женскими изображениями всех времён становится очевидно, что представление о женской красоте не очень менялось с течением времени. В любом случае и те, и другие идеалы создавали в подсознании
(174/175)
мужчины желанный образ будущей матери его детей, а в подсознании женщины, соответственно, — образ надёжного отца и защитника. Вероятнее всего, начало этого процесса в филогенезе уходит в глубины эволюции, когда половой отбор как форма естественного отбора и «механизм» эволюции начал действовать у животных и птиц в виде соперничества за спаривание с особями другого пола. Сначала это был чисто генетический, неосознаваемый механизм. Затем у высших животных, особенно у приматов, он стал обрастать условными рефлексами, т.е. реакциями, близкими к сознательным, а по мере приближения к современному человеку это осознание расширялось.
Между тем и сейчас современная женщина или мужчина не может полностью осознать и объяснить мотивы своего избирательного поведения, когда отдаёт предпочтение одному, а не другому партнёру. Проблема выбора во все времена и во всех культурах таится в коллективном бессознательном, ибо неврологические и биохимические особенности, которые так или иначе влияют на выбор, у всех людей одни и те же. Такие понятия, как «нравиться», «любить», скрывают в себе очень широкий спектр эмоций, среди которых бывает крайне трудно отличить вполне осознанные эмоции от весьма туманных, порождённых психофизиологическими реакциями, в частности действиями гормонов.
6.3.2. Пищевые предпочтения. Еда. ^
Еда, как и другие жизненно важные факторы, удовлетворяет врождённую биологическую потребность. Как уже было отмечено выше, животные, как и люди, наслаждаются ею. Ясно, однако, что человеку еда доставляет ещё и какое-то только ему доступное удовольствие. Люди в отличие от животных способны отделять процесс еды от его биологической роли. Только люди склонны что-то проделывать с пищевыми продуктами перед их съедением, т.е. выбирать еду, готовить её, добавлять разные приправы, обставлять некими правилами поведения за столом, вплоть до ритуальных, и т.д. Всё это переносит приготовление и потребление пищи из сферы необходимого (т.е. простого утоления голода) на интеллектуальный уровень. Иными словами — на уровень культуры.
В кулинарных традициях большинства народов ясно выражена тенденция к созданию консервативного центрального ядра с последующим избирательным введением некоторых новшеств, чтобы видоизменить или усилить центральную тему. Такое использование темы и вариаций в качестве структурного принципа характерно не только для кухни; оно присуще всем формам человеческой культуры и, по-видимому, играет важную роль во многих
(175/176)
видах искусства — в музыке, живописи, литературе. Оно, очевидно, выступает главным образом как некий эстетический принцип (подробнее см. Розен 1995: 321-323).
Подобные же реакции наблюдаются и у животных. Например, отрицательные эмоции, стресс у человека и высших животных сопровождается увеличением частоты пульса и выделением гормона гидрокортизона, чем обеспечивается адаптация человека к изменившимся условиям среды. Проявления гениальности в науке и в различных искусствах (в музыке, живописи, поэзии и т.п.) тоже связано с особыми биохимическими процессами в организме (Эфроимсон 1998).
6.3.3. Восприятие цвета. ^
Известны эксперименты, в которых некоторые животные научаются различать цвета (Фишель 1973). Правда, пока никакими исследованиями не доказано, что эти результаты достигаются без соответствующей дрессировки, после которой у одних животных те или иные цвета или формы предметов вызывают положительные эмоции, а у других — отрицательные.
Интересные соображения возникают при изучении связи между восприятием цветов и цветом пищи. Пропускная способность зрительного канала человека лежит в очень узкой области спектра: при дневном свете от 500 до 700 нанометров (нм). Ещё меньше диапазон наибольшей светочувствительности (500-600 нм). Эта полоса соответствует зелёному и жёлтому цвету, и вполне возможно, что в ходе эволюции такая чувствительность сформировалась необходимостью по цвету оценивать степень зрелости плодов и вегетативных частей растений (Цоллингер 1995: 170).
Отсюда, в свою очередь, у человека складывались психоэмоциональные характеристики цветов: красный, оранжевый, жёлтый — «тёплые»; голубой, синий — «холодные». И это не чистая метафора. Такая последовательность соответствует эволюции органов чувств: осязание возникло раньше, чем зрение.
6.4. Наслаждение. ^
Ещё одним источником положительных эмоций как основы эволюционно более поздних эстетических представлений может быть инстинкт наслаждения (Корытин 1991). Он вторичен и стоит над простейшими инстинктами. В основе его тоже лежит естественная потребность в разрядке от стрессов. У хищников
(176/177)
охота связана с большими нервными и физическими нагрузками. Если она заканчивалась успешно и зверь утолял голод обильной трапезой, напряжение сменялось расслаблением. Добыв крупную жертву, медведь ломает вокруг валежник, обдирает кору деревьев. Возможно, это возбуждение имеет эйфорический характер.
Реакция животных на некоторые запахи (полузакрытые глаза, блаженный рык трущихся и валяющихся на источнике восхитительного запаха) приводит к мысли, что им нравится это занятие, что они наслаждаются получаемым ощущением. Об этом говорят жадные причмокивания медведя, лижущего мёд или припавшего к плошке с медовухой (Корытин 1991: 42).
Истоки большинства тёмных человеческих инстинктов, страстей к получению наслаждения путём принятия алкоголя или наркотиков лежат в животном мире, так как большинство наркотических веществ имеет растительное происхождение. И хотя в животном мире наркомания распространена в сравнении с человеческим обществом в неизмеримо меньших масштабах, все виды животных, включая птиц и рыб, испытывают эйфорию от опьянения и «могут при стечении обстоятельств или содействии человека приучиться к алкоголю» (Корытин 1991: 75). Автор считает, что к инстинкту наслаждения относятся и те ощущения, которые становятся зачатками эстетических эмоций, свойственные обезьянам и некоторым другим позвоночным.
Подтверждение тому, что животные способны испытывать удовольствие не только от удовлетворения естественных потребностей — от пищи, от совокупления, от успешной охоты и т.п., — можно наблюдать в играх животных, особенно — молодняка (подробнее см.: Деккерт 1985; Кэрригер 1973: 159-180; Акимушкин 1965: 18-26). Разумеется, в играх детёнышей присутствуют элементы тренировки, отработки приёмов состязательности, охоты, которые пригодятся им в будущем. Анализируя примеры игр животных разных видов, С. Кэрригер приходит к выводу, что разнообразие и сложность игры зависит от степени развития мозга. Более высокоразвитые животные не только способны удовлетворять свои инстинктивные потребности, но и умеют использовать свободное время для того, чтобы получить удовольствие, а чем больше развита игра, тем больше в ней признаков любознательности (Кэрригер 1973: 173-176).
Игры животных не имеют ясно поставленных целей, в них проявляется общая любознательность, стремление к познанию, независимо от практических выгод, которые можно извлечь из такого познания, а также и некоторые эмоциональные проявления, которые можно назвать предэстетическими (Кэрригер 1973: 180). Кроме игр, к предэстетическим формам поведения можно отнести,
(177/178)
например, пение птиц после окончания брачного периода, когда оно не связано с привлечением самки. Орнитологи отмечают, что пение некоторых птиц в осенне-зимний сезон гораздо лучше, длиннее и разнообразнее, чем в период спаривания. Правда, это интересное наблюдение может больше соответствовать вкусу или эстетическим нормам орнитолога-наблюдателя, а не поющей птицы. Примеры того, что эстетическое восприятие как избирательное, т.е. отдающее предпочтение чему-то из окружающей среды, сложилось на основе природных психофизиологических механизмов, могут быть умножены. Их можно найти в работах С.Н. Давиденкова, П.В. Симонова, H.H. Николаенко и других авторов. В изучении истинной природы эмоций крайне нуждается сама эстетика, особенно в связи с очищением от многочисленных вульгарно-социологических наслоений, когда искусство рассматривалось как форма общественного сознания, едва ли не напрямую связанная с уровнем хозяйственно-экономического развития (см., например, Кюн 1933: 17).
6.5. Социальные факторы. ^
Разумеется, нельзя игнорировать роль социума в происхождении и развитии искусства, а также его несомненную эстетическую составляющую. Однако осознание эстетической ценности искусства пришло значительно позже его появления и уж, во всяком случае, не раньше того времени, когда появилась философия.
Истоком положительных и отрицательных эмоций могло служить не только избирательное восприятие. По-видимому, существуют и более глубинные процессы, регулируемые СВНД с её вегетативной частью и двумя типами иннервации, влияющей на внутренние органы: симпатической и парасимпатической. Первая включается в условиях стресса или напряжения (испуг, боль, голод, избегание погони и т.п.). Она активизирует кровоснабжение мышц, мозга, сердца и способствует мобилизации всех защитных средств организма. Такое состояние не может быть слишком продолжительным и неизбежно порождает отрицательную эмоцию.
Парасимпатическая — позволяет восстановить нормальное состояние организма, и стрессовая ситуация сменяется расслаблением, а отрицательная эмоция — положительной.
Согласно одной из гипотез, чувство красоты как положительная эмоция зарождалось у высших животных и у человека при общении с детёнышами. Все младенцы (человеческие и животные) обладают некоторыми общими
(178/179)
внешними данными, вызывающими у взрослых ощущение удовольствия (Эйбл-Эйбесфельдт 1995: 39).
Отбор на художественную восприимчивость мог начинаться с таких элементарных природных стимуляций, как привлекающая или отпугивающая окраска, чистое голубое небо или мрачное, покрытое грозовыми тучами с молнией и громом, тепло или холод, симметрия или асимметричность и т.д.
Постепенно эти неосознанные, чисто природные перцепции должны были усиливаться и факторами социальными. Привлекающая или отпугивающая природная окраска растений и животных переходила в татуировку или раскраску лица и тела. Складывающаяся вторая сигнальная система превращала образное восприятие голубого неба и солнца в словесный или визуальный символ добра и благополучия, а грозовые тучи — в символ зла и тревоги. Но социальные стимулы появляются на поздних стадиях эволюции, в лучшем случае у высших приматов, а красивые дикие цветы, раскраска крыльев бабочек, оперения птиц и т.п. — результаты чистого естественного отбора.
Гениальное прозрение античных философов Платона и Аристотеля в области эстетики состояло в том, что они заметили благотворное значение эмоционального переживания, которое они назвали катарсисом. Пифагорейцы рекомендовали музыку как средство очищения души, как способ вызвать расслабленное, умиротворённое состояние психики, а З. Фрейд считал катарсис одним из методов психотерапии. Л.С. Выготский писал: «…разряд нервной энергии, который составляет сущность всякого чувства, при этом процессе совершается в противоположном направлении, чем это имеет место обычно, и что искусство, таким образом, становится сильнейшим средством для наиболее целесообразных и важных разрядов нервной энергии» (Выготский 1968: 271).
Близкие по существу идеи развивал С.Н. Давиденков (1947; 1975). Он объяснял магические действия древних и современных отставших в культурном развитии народов, иногда совершенно абсурдные, с нашей точки зрения, полуинстинктивным стремлением преодолеть нервный стресс, страхи и всякие фобии, которые развивались в сознании человека под влиянием непонятных и потому потенциально или вполне реально опасных явлений и событий в среде его обитания. Когда он совершал некое магическое действие, наступала нервная разрядка и следующее за ней успокоение. Позднее на этой почве сформировался шаманизм как особая ритуальная деятельность людей с определёнными невротическими свойствами их личности. В ходе камлания шаман впадал в состояние транса, т.е. максимального нервного возбуждения, которое передавалось окружающим. Затем у него наступал катарсис, который также оказывал влияние на участников обряда и присутствующих.
(179/180)
Вообще во многих формах поведения животных и птиц можно усмотреть нечто близкое к эстетическим предпочтениям. Например, строительство «шалашей» птицами-шалашниками. Самцы, которые имеют довольно непривлекательную окраску, строят их для привлечения самок, причём замечено, что чем непривлекательнее самец, тем более искусно он строит и украшает свой шалаш. Шалаши служат только местом для «свиданий», здесь нет гнезда; они украшаются цветами, раковинами, серебристыми листьями, иногда «раскрашиваются».
Цветы и листья самец меняет по мере их увядания даже тогда, когда самка откладывает яйца и воспитывает птенцов. Она может уже никогда не прийти сюда. Так чем же объяснить эти хлопоты самца? Вряд ли прав автор, думая, что шалашнику нравится заниматься украшательством (Кэрригер 1973: 194-196). Слово «нравится» обозначает сознательное действие, а не инстинкт у птички. Если это не издержки перевода, то, скорее всего, такое поведение объясняется инстинктом полового отбора. Нейрофизиология зрительных нейронных ансамблей устроена на основе предпочтительности одних внешних раздражителей другим.
Г. Баумгартнер попытался объяснить это следующим образом: «Быть может, именно такие стимулы образуют в совокупности то, что получает положительную эстетическую оценку. В связи с этой мыслью вспоминается утверждение И. Канта: мы находим форму прекрасной, если она облегчает восприятие. Возможно, что таким способом зрительная система просто поощряет простое решение задачи. Тут много общего с тем, как мы воспринимаем речь: ясное изложение сложного предмета импонирует нам больше, чем запутанный очерк, даже когда он более содержателен. < … > То, что видится нам красивым или приятным — это, возможно, такие совокупности зрительных стимулов, которые лучше всего соответствуют способам обработки информации в центральной нервной системе. Эти способы до известной степени предопределены наследственно, однако богатство и разнообразие зрительного опыта вместе с продолжающимися процессами научения делают эстетические предпочтения подверженными перемене.
Такая пластичность и есть вероятная причина того, что любая застывшая эстетическая теория будет неудовлетворительной. Вряд ли можно ожидать, что более полное постижение законов внутренней переработки зрительной информации поможет делу. Сложность приложения этих законов столь велика, что предсказуемости эстетических оценок не добиться, по-видимому, никогда» (Баумгартнер 1995: 187-188).
Подобное истолкование зрительной оценки прекрасного пока не объясняет некоторые факты. Действительно, поначалу в древнейшей изобразитель-
(180/181)
ной деятельности естественным путём вырабатывалась единая для разных культур форма изображений. Попытка разделения палеолитической живописи Леруа-Гураном всё же частично была искусственной. Брейль улавливал начало различий в стилях на рубеже между циклами ориньяко-перигор и солютре-мадлен.
Различия между более поздними художественными традициями разных типов культур (европейской, африканской, китайской, индийской, австралийской и т.д.), а также изменчивость художественных стилей во времени внутри одной традиции не находят себе объяснения в рамках обеих гипотез (Брейля и Баумгартнера). Второй автор это понимает и ссылается на пластичность мозга. Он отмечает очень важную особенность нейронных сетей мозговой коры: они не определяются всецело наследственностью. Чтобы они окончательно сложились, нужен опыт видения, приобретаемый в раннем периоде жизни.
Итак, эстетические нормы — часть ценностного отношения к окружающей среде. Некие зачатки оценочных реакций присущи и животным (приятно — неприятно). Но это — пассивная форма оценочного поведения, к тому же связанная с непосредственными биологическими раздражителями (голод — насыщение, боль — ласка, страх — покой и т.д.). Вряд ли она могла послужить основой, на которой эволюционным путем сформировались человеческие эстетические предпочтения. Ф. Ницше скорее метафорически, чем серьёзно, говорил о «художественных инстинктах природы» (Ницше 1990: 63). По-видимому, на переходе к верхнему палеолиту в духовном развитии представителей рода Homo произошёл разрыв непрерывности, который и породил новое качество — способность любоваться природой и произведениями своих рук.
Всё осознанное человеком получает своё воплощение в языке. Если эстетические оценки сознательны, то они не могут появиться раньше той ступени развития сознания, когда используются не просто слова-названия объектов и действий, а понятия (хаос — гармония, прекрасно — отвратительно и т.п.). Понятийное мышление даже у сапиенса складывается далеко не сразу. Это подтверждается исследованиями языков аборигенов Африки, Австралии, обеих Америк и других народов, отставших в своём развитии от европейской культуры.
Принимая чувство прекрасного за основу, на которой выросло искусство, мы меняем местами причину и следствие и неизбежно должны будем признать, что эстетические нормы и принципы сложились до понятийного мышления и, следовательно, вне него. Правда, сознание проявляется не только в словах и понятиях, но и в образах, представлениях и даже, возможно, в каких-то ещё неясных психологических феноменах. Думается, что правы те авторы, которые считают, что новые для палеолитического человека духовные потребности лишь
(181/182)
спустя многие тысячелетия становятся эстетическим чувством, присущим современному человеку. Вначале они были полностью растворены в сложном первобытном синкретическом духовном комплексе, тесно переплетаясь с эмоциональным выражением практических нужд и потребностей. То же относится и к самой деятельности, которую мы квалифицируем как художественную, но которая не является искусством в смысле, приобретённом этим понятием позднее (Мириманов 1974: 10). Если же эстетические оценки и представления возникли не на основе сознания, а как-то подобно инстинктам или рефлексам, то должны быть некие объективно устанавливаемые формы поведения животных, отражающие эти свойства. Пока же мы видим только самые зачатки таких форм, к тому же ещё и не вполне объяснимые.
Исторически сложилось так, что памятники первобытного искусства в основном изучаются археологами и историками первобытности. Наряду с другими проблемами они обращаются и к рассмотрению эстетической стороны древнейшего изобразительного творчества. Однако это не выходит за рамки общих оценочных суждений вне магистрального направления современного искусствознания, которое сложилось на базе европейской, в основном немецко-австрийской школы (А. Варбург, И. Винкельман, Г. Вёльфлин, И. Гегель, Э. Гомбрих, Г. Зедльмайр, М. Фридлендер и др.).
Искусствоведы начинают свои исследования по истории искусства, как правило, с античности, реже — с Двуречья, Египта, Индии и Дальнего Востока, а первобытное искусство только упоминается. Шедеврам пещерной живописи, графики и пластики даются восторженные оценки, но без того глубокого анализа, с которым изучается искусство античности, Возрождения и последующих эпох. В результате искусствоведы рассматривают первобытное искусство как «готовое», без учёта десятков тысячелетий его формирования, т.е. как искусство любой другой эпохи, включая современное. Есть редкие исключения (Н.В. Бродская, С.А. Зинченко, Е.Ф. Королькова и др.), но они только подчёркивают общую тенденцию.
Психологи тоже обращаются к искусству как объекту исследования с точки зрения своей науки. Интерес психологов к первобытному искусству появился давно, начиная с В.И. Бехтерева (если не раньше) и С.Н. Давиденкова, стимулировался врачами-психиатрами и генетиками (П.И. Карпов, Р.Б. Хайкин, В.П. Эфроимсон, C. Wiart и др.), которые усматривали в «творчестве» своих пациентов основания для более точной диагностики. Иногда они обращались к пещерной живописи и предполагали, что её создавали «циркулярные личности» (Д.Д. Иванов). Ближе других к этой проблеме подошли психофизиолог Н.Н. Николаенко и художница Нэнси Эйкен (Aiken 1998). Оба напрямую
(182/183)
связали происхождение искусства с природными, психофизиологическими свойствами H. sapiens.
Данные психологии дают основание считать, что эстетическое воздействие произведений искусства зависит не от труда и не от «возвышенных чувств», а от физиологических особенностей восприятия. Сами возвышенные чувства, их материальный субстрат, их основа заданы биологически. Многочисленные исследования эмоциональной сферы человека и животных показывают, что различным волнениям и переживаниям соответствуют определённые биохимические реакции в СВНД. В частности, в тканях мозга образуются особые белковые вещества — пептидные комплексы, которые, попадая в кровь, усиливают или ослабляют наши эмоциональные реакции на объекты и явления окружающего мира.
По-видимому, пока, на современном уровне наших знаний, следовало бы воздержаться от использования понятий сегодняшней (а другой у нас нет) эстетики и включения в проблему происхождения первобытного искусства историко-эстетических формулировок, приводящих к характеристикам неандертальца и даже более ранних гоминид как обладателей чувства прекрасного. Думается, что, обращаясь к категориям прекрасного или говоря о художественных потребностях человека ориньякского или тем более мустьерского времени, мы умножаем одну неясность на другую. Не зная подлинного механизма зарождения изобразительной деятельности, мы добавляем к этому незнанию дополнительную неясность в понимании того, как произошёл переход от «неэстетического» поведения архантропа к якобы вполне осознанной эстетике кроманьонца, что само по себе тоже ещё никем не доказано. В частности, некоторые археологи, занимающиеся происхождением искусства, решительно отвергают гипотезы о чувстве прекрасного как источнике изобразительной детельности и искусства (Lewis-Williams 2002: 73; Lorblanchet 1999: 35-36 и др.).
6.6. Первобытное искусство и современные художники. ^
Все рассмотренные в гл. 5 виды сходства между первобытной и современной детской изобразительной деятельностью указывают на преобладание психофизиологических факторов на начальном этапе развития как в онтогенезе, так и в филогенезе. В связи с этим уместно вспомнить вопрос, поставленный когда-то З.А. Абрамовой о путях, которыми «в гениальное творчество Пикассо проникли отголоски искусства ледникового периода» (Абрамова 1972: 28).
(183/184)
Некоторые художественные критики считают, что на творчество Пикассо повлияло древнее африканское искусство. Существует широко распространённая, вполне конкретная и краткая версия того, как это произошло. В 1907 г. Пикассо однажды в старом дворце Трокадеро забрёл в Этнографический музей, позже преобразованный в Музей Человека. Здесь он впервые увидел маски народов Африки, Океании, Америки и др. Многие исследователи его творчества сочли именно этот момент началом «африканского» периода в искусстве Пикассо, в частности, приводя в пример его «Авиньонских девиц». Но сам Пикассо сначала это отрицал. «Авиньонских девиц» он якобы начинал писать до посещения музея. Пикассо, как известно, не гнушался тем, что мы сейчас называем пиаром, и вообще дело не в том, повлияло или не повлияло на него то, что он увидел тогда в музее. Спустя 30 лет, в 1937 г., в беседе с А. Мальро и X. Бергамином Пикассо вспоминал своё посещение музея и признал, что знакомство с «африканским искусством» повлияло на него при работе над «Герникой».
«Радикальную» гипотезу предложил автор ряда работ об искусстве африканских художников, тогда профессор Сорбонны Бесеат Кифле Селассие. Он связал эту особенность творчества Пикассо с его происхождением из Андалусии (Малага), которая «находится недалеко от африканского побережья» (подробнее см.: Selassie 1980: 29-33), забывая о том, что в данном регионе начиная со средних веков большинство населения — не темнокожие язычники, а арабы-мусульмане, у которых вообще существовал ритуальный запрет на создание изображений живых существ.
Есть ещё одна версия, более правдоподобная. Увидев впервые африканскую скульптуру, принесённую А. Дереном в мастерскую А. Матисса, Пикассо «…нашел в её обобщённых образах систему выявления в пластике первоначальной геометрической основы формы, что стало непосредственным толчком к появлению кубизма» (Бродская 1998: 27).
Позволю себе не согласиться с этими версиями ни в отношении к Пикассо, ни вообще. Я нисколько не сомневаюсь в искренности Пикассо, возможно, он действительно так считал. Но дело в том, что не только Пикассо, но и другие художники неожиданно для себя обнаруживали в своём творчестве те или иные особенности, присущие первобытному искусству. Прежде всего те из них, кто изначально не был отягощён академическими уроками рисования и живописи. Если они сами не задумывались об этом, то их обнаруживали коллеги, искусствоведы или художественные критики и начинались дискуссии, кто и как на них повлиял.
Обращение современных художников к идеям и образам первобытного искусства почти всегда происходит спонтанно. Как показала Н.В. Бродская,
(184/185)
А. Руссо и Н. Пиросмани не видели и не изучали первобытного искусства. А. Джакометти был уверен, что его собственный стиль в искусстве формируется без всяких внешних влияний. Он начал рисовать в своём, близком к мезолитическому искусству стиле задолго до того, как познакомился с искусством самых для него древних этрусков. А в первый раз поехал посмотреть пещеры с древнейшими рисунками лишь после того, как искусствоведы стали настойчиво сравнивать его скульптуру с произведениями первобытных художников (Бродская 1998: 33; см. также произведения Хоана Миро и др.: Brodskaia 2000: 53 и др.). Я бы добавил к этому списку русского художника А. Зверева, особенно его раннюю графику, в которой тоже спонтанно, без какого-либо конкретного влияния есть рисунки, вполне сопоставимые с первобытными. Например, профильное изображение протом двух лошадей как бы списано с фрески в пещере Шове, которую открыли спустя 14 лет после смерти художника. Ранние графические контурные женские фигуры почти «один к одному» повторяют подобные гравировки из Англь-сюр-л’Англен, хотя, несомненно, Зверев их не видел. В его графических листах нередки женские контурные изображения, подобные палеолитическим, но в других ракурсах.
Таким образом, можно сформулировать ещё одну версию ответа на первый вопрос, которая представляется мне наиболее правдоподобной. «Отголоски» искусства ледникового периода проникли в гениальное творчество Пикассо и некоторых других художников по законам генетики, т.е. по законам природы. Пикассо и Джакометти были сыновьями художников, учились искусству либо недолго (Джакометти), либо недолго и не прилежно (Пикассо, Зверев), либо вообще не учились (Руссо, Пиросмани). Поэтому доминирующим фактором в их искусстве был врождённый талант. На него либо вообще не давил груз учебных упражнений и заданий (Руссо, Пиросмани), либо уроки рисования не могли превзойти силу таланта (Пикассо, Джакометти, Зверев и др.).
Всё сказанное выше было сформулировано самим Пикассо в краткой и простой словесной форме: «Я не пишу с натуры, я пишу при помощи натуры. Я изображаю мир не таким, каким я его вижу, а таким, каким я его мыслю». Так сам Пикассо по-своему, не думая о генетике, ответил на вопрос о том, как отголоски искусства ледникового периода проникли в его творчество. Но это была только половина ответа. Вторая половина состоит в том, что, говоря словами Бродской, он «нашёл систему первоначальной геометрической основы формы, что стало непосредственным толчком к появлению кубизма». Одной из граней его творчества были глубинные структуры бессловесного образного мышления. Поэтому он и не стремился словами объяснить свою кубистическую манеру.
(185/186)
Возможно, что так проявляется один из общих законов развития искусства, о которых писал В.М. Бехтерев. Возможно, эти «отголоски» (следы генетической памяти) в той или иной мере сохраняются у всех или у многих художников, но становятся заметнее у тех, кто менее прилежно усваивал академические уроки рисования. Однако это вопрос специального исследования.
Потрясённые высоким художественным уровнем пещерной живописи, графики и пластики, мы не всегда задумываемся о том, какое место это искусство занимало в обществе эпохи верхнего палеолита и последующих «доисторических» периодов. Все согласны с тем, что до нас дошла очень небольшая часть от всех созданных когда-то изображений, но никто не пытался даже грубо оценить их первоначальное количество. Этим по гранту ЮНЕСКО целенаправленно занимался Э. Анати. Он пришёл к оценке около 20 млн изображений, сохранившихся до наших дней. Качество этой оценки даже ниже средней температуры по больнице. Если допустить, что ¾ из них относятся ко времени после мезолитической паузы, и если к оставшимся 5 млн прибавить ещё десять ненайденных или потерянных, получится 15 млн. Разделив их на примерно 40 тыс.лет, мы получим столь же условное число — во всём мире создавалось около 400 изображений в год. При всей условности получается, что изображения создавались очень редко, особенно на ранних этапах (ориньяк-граветт).
[17] Не очень уместная привязка к геологической эре. Формально верно: мы живём в позднем кайнозое, который, однако, начался 67 млн лет назад. Это — верхний пласт геологической истории Земли, но не культурной истории современного человека. Все гоминиды тоже жили в позднем кайнозое.
[18] Фонетика немецкого языка требует в данном случае написания Айбл-Айбесфельдт, но в других переводах тоже пишут через «Э».
наверх
|