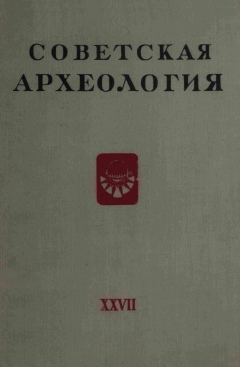 С.И. Руденко
С.И. Руденко
К вопросу о датировке и историко-культурной оценке
горноалтайских находок.
// СА. XXVII. 1957. С. 301-306.
В XIX сб. «Советская археология» опубликована рецензия Л.Р. Кызласова и К.Ф. Смирнова на мою книгу «Горноалтайские находки и скифы», а в журнале «Вопросы истории» (1954, кн. 6) — рецензия Л.А. Евтюховой на книгу «Культура населения Горного Алтая в скифское время». Л.А. Евтюхова, в общем соглашаясь с моей оценкой культуры населения Горного Алтая в рассматриваемое мною время, в своей рецензии стремится доказать принадлежность племён времени Пазырыка к гунно-сарматскому, а не к скифскому времени, опираясь на аналогии для меня неубедительные, а в некоторых случаях просто несуществующие 1. [сноска: 1 Ответ на рецензию Л.А. Евтюховой опубликован мною в «Вопросах истории», 1955, №11.] Рецензенты книги «Горноалтайские находки и скифы» не согласны ни с моей датировкой, ни с общей историко-культурной оценкой горноалтайских находок, которые, с их точки зрения, должны быть коренным образом пересмотрены.
В примечании к рецензии редакцией снимается ряд претензий, предъявляемых мне рецензентами, и на них я не буду останавливаться. Одновременно в примечании «от редакции» отмечается, что в значительной части возражения авторов публикуемой рецензии всё же не снимаются. Ответить на эти возражения и затрагиваемые в рецензии общие вопросы я считаю себя обязанным тем более, что «Метод замалчивания иных точек зрения, — как справедливо указывают авторы рецензии, — не есть метод, приводящий к объективно-научной, правильной оценке археологических материалов».
Начну с вопроса, который рецензенты считают частным, я же полагаю, что он весьма существен. Это вопрос о хозяйстве и связанном с ним образе жизни племён Горного Алтая в рассматриваемую эпоху. М.П. Грязнов назвал эти племена «ранними кочевниками», что безоговорочно принимается рецензентами. Термин этот я считаю неудачным не только вследствие его неопределённости, но и потому, что он неприменим к племенам Горного Алтая. Свою точку зрения я достаточно подробно изложил в рецензируемой книге, и отрицать её, значит не считаться с реальными фактами и игнорировать исторический ход развития скотоводческого хозяйства в евразийских странах в I тысячелетии до н.э.
Мы знаем, что в первой половине I тысячелетия до н.э. значительная часть осёдлых племён евразийских степей и предгорий перешла к относительно подвижному образу жизни, связанному с массовым разведением лошадей и, как следствие, — с освоением огромных пространств до того почти не использованных степей и полупустынь. При этом вследствие климатических условий евразийских степей и того, что у всех племён имелся крупный рогатый скот, основная масса племён продолжала осёдлый образ жизни, и только богатые семьи две трети года передвигались со своими стадами в поисках корма. Таким образом, во все времена скотоводческие племена, обитавшие
(301/302)
в евразийских степях, в том числе и причерноморские скифы-номады, вели полукочевой образ жизни, притом многие — с отгонным пастушеским скотоводством.
Если такое положение было в степных районах, как же можно говорить о кочевом образе жизни в горах Алтая, где степные участки в узких долинах рек в этой горнолесной стране занимают всего несколько процентов общей площади края? Никаких «юртообразных устройств каменных курганов» в Горном Алтае никто не видел. В пятом Пазырыкском кургане, как показали детальные исследования, не было найдено никаких остатков войлочной юрты. Погребение верховых коней со всем их убранством действительно характерно для части коневодческих племён, но не свидетельствует о кочевом образе их жизни, деревянные «столики со съёмными крышками» по существу были блюдами. Столы, как показали раскопки Туэктинских курганов 1954 г., у горноалтайцев в рассматриваемую эпоху были отнюдь не «кочевнические», а массивные — длиной до 2,30 м, на ножках высотой 0,90 м. Как показали раскопки того же года, древние горноалтайцы не только были осёдлы, но и занимались посевом проса.
Перехожу к основным положениям рецензентов относительно датировки и историко-культурной оценки горноалтайских находок.
Вполне справедливо утверждение рецензентов, что без правильной датировки археологических памятников невозможны и правильные исторические выводы. Однако датировка археологических памятников, относящихся даже к такому сравнительно недавнему времени, как I тысячелетие до н.э., задача не такая уж простая. Абсолютная, да и относительная датировка памятников этого времени в Южной Сибири до сих пор не имеет твёрдых точек опоры. В них мы не находим ни монет, ни античной керамики, хорошо датирующей скифские памятники Северного Причерноморья. Такое положение сохранится до тех пор, пока в практике археологических исследований не найдут применения современные физико-химические методы определения возраста ископаемых объектов. Пока этого нет, приходится пользоваться косвенными приёмами, прибегая к аналогиям с хорошо датированными памятниками.
В своей датировке горноалтайских курганов с каменной наброской, в частности, Пазырыкской группы, я исходил из анализа вещей, импортных из Передней Азии, из анализа стиля искусства и из сопоставления с предметами из хорошо датированных курганов Причерноморья.
Методом аналогий следует пользоваться очень осторожно, если он применяется в целях датировки. Прежде всего, объекты, принимаемые в качестве аналогов для установления того или иного памятника, должны иметь короткий срок бытования и отличаться такими частными особенностями, которые не встречаются на других подобных объектах. Кроме того, сами они должны быть хорошо датированы. В этом отношении большую ценность имеет стиль искусства, обычно весьма выразительный и быстро меняющийся.
Переднеазиатское происхождение вещей, таких, как шерстяные ткани и ворсовый ковер из пятого Пазырыкского кургана, датируемых ахеменидским временем, не вызывает никаких сомнений. Не случайно полное отсутствие в горноалтайских курганах с каменной наброской вещей греко-бактрийских, которые после похода Александра Македонского должны были бы проникнуть в Горный Алтай. Показательно также отсутствие китайских вещей ханьского времени, что отрицается рецензентами. Всё это, включая и стиль искусства, о чём речь ниже, не позволяет мне датировать горноалтайские курганы, о которых идёт речь, временем позднее IV в. до н.э.
Рецензенты не отрицают наличие отмеченных мною доахеменидских и раннеахеменидских элементов в привозных вещах (ткани, ковры) и в местном изобразительном искусстве. «Однако не эти архаические черты, действительно свойственные Пазырыку, — как пишут рецензенты, — должны лечь в основу датировки Пазырыкских памятников» .
На что же они предлагают опереться при датировке этих курганов? На памятники искусства Амударьинского клада и особенно на серию золотых предметов из так называемой скифо-сибирской коллекции Эрмитажа. Но ведь рецензентам должно быть
(302/303)
известно, как я уже об этом писал, что Амударьинский клад, раз они о нём уже заговорили, не является кладом в общепринятом понимании, как вещи кем-то собранные и все вместе где-то спрятанные. Это собрание вещей, которое в 1880 г. А.В. Фрэнсис приобрёл в Индии, в Пешаваре. Точно место происхождения вещей не установлено. Был ли это берег Аму-Дарьи, место одной из переправ через неё, или Кафирниган — неизвестно, что, впрочем, для нас особого значения не имеет. Важнее то обстоятельство, что неизвестно, были ли монеты и геммы, которые могли бы датировать эту покупку, найдены с другими вещами в Средней Азии или они иного происхождения и были только приобщены индийскими купцами к среднеазиатским вещам при продаже коллекции. Следовательно, сами по себе амударьинские вещи не могут быть опорным пунктом для датировки других комплексов, а сами нуждаются в определении их времени.
О скифо-сибирской коллекции Эрмитажа мы знаем только, что её вещи происходят из курганов от Урала до Алтая. Коллекция эта детально мною изучена, и я надеюсь, что в непродолжительном времени она будет опубликована. Заключающиеся в ней предметы разновременны, начиная с VI в. до н.э. и кончая II, а быть может, и более поздними веками нашей эры. И это собрание нуждается в определении времени вещей, вошедших в его состав, и совершенно непригодно для датировки каких бы то ни было археологических комплексов.
Рецензенты подчеркивают, что такие черты, «свойственные пазырыкскому изобразительному искусству, как сцены борьбы фантастических животных, особая трактовка тела зверя с вывернутой задней половиной тела, полихромия, выраженная в украшении тела цветными вставками в виде запятых, кружков и т.п., — чужды скифскому искусству и составляют основу гунно-сарматского изобразительного искусства III в. до н.э. — II в. н.э.». Рецензенты при этом не считаются с тем, что все эти черты свойственны прежде всего переднеазиатскому искусству доахеменидского и ахеменидского времени и раннему скифскому (курганы Келермесский, Костромской и др.).
Всё это — высказывания декларативного порядка. Какие же конкретные аналогии приводятся рецензентами для датировки интересующих нас курганов по линии стиля и художественных форм?
Из датированных памятников рецензенты ссылаются на известные бляхи из древнейших (II-I вв. до н.э.) гуннских погребений Дэрестуйского могильника в Забайкалье и на гуннские ковровые аппликации из Ноин-Улы (I в. н.э.).
Дэрестуйские бляхи не имеют аналогов в горноалтайских погребениях. Подобные им по сюжету и форме имеются в Эрмитажной коллекции скифо-сибирского золота. Из сопоставления этих блях очевидно, что Дэрестуйские бляхи являются грубым подражанием более совершенным образцам, представленным в Сибирской коллекции. Кроме того, сибирские бляхи этого типа служили застёжками кафтанов, Дэрестуйские же, сохранив древнюю форму застёжек, утратили своё назначение и были прибиты к внутренним стенкам гроба как украшение.
То, что рецензенты называют аппликациями на ноинулинском ковре, на самом деле — вышивки. Там изображены два сюжета: борьба тигра с яком и нападение орлиного грифона на оленя.
Первый сюжет не имеет аналогий в предметах из горноалтайских находок, но подобные ему и синхронные горноалтайским памятникам, о которых идёт речь, имеются в Сибирской коллекции Эрмитажа. Однако и здесь ноинулинская сцена является слабой копией сибирских образцов. Головки грифов на кончике носа, на загривке и на кончике хвоста тигра весьма условны, фактура тела, хорошо переданная на сибирских образцах, на ноинулинском ковре не передана, формы тела животных подчёркнуты стандартным орнаментом, неизвестным на подобных изображениях Южной Сибири. Второй сюжет — нападение грифона на оленя. Подобная композиция в середине I тысячелетия до н.э. получила весьма широкое распространение. Её мы видим на персепольских барельефах (нападение льва на быка), на знаменитой чаше из скифского Келермесского кургана (нападение льва на козла), на серебряном сосуде из скифского же кургана Куль-Оба (нападение льва на оленя), в нескольких вариантах
(303/304)
на предметах из Пазырыкского кургана. Все эти сцены аналогичны по сюжету и композиции, стилистически же они весьма различны. В частности, на кожаном покрывале из второго Пазырыкского кургана, где крылатый и рогатый, типично персидский, львиный грифон напал на лося, формы тела последнего подчёркнуты условными значками в виде «запятых, точек, полуподковок или скобок» — приём, характерный для изображений животных в ахеменидской Персии (см. известные кафели во дворце в Сузах). В вышивке на ноинулинском ковре этих условных значков уже нет, их заменил всё тот же стандартный орнамент, происхождение которого следует ещё выяснить.
Сопоставляя художественные реалистические изображения животных из горноалтайских курганов с в значительной мере уже условными изображениями на ноинулинском ковре, любой непредубеждённый наблюдатель скажет, какие из них являются оригинальными и какие позднейшим подражанием.
Стремясь доказать гунно-сарматское время горноалтайских находок, рецензенты широко пользуются аналогиями из погребений Минусинской котловины, из погребений сарматских — на западе, северомонгольских ханьского времени — на востоке. Какая же цена этим аналогиям?
За неимением других художественных мотивов, общих искусству древних горноалтайцев и племён, населявших в последние века до нашей эры Минусинскую котловину, рецензенты выбрали один из сотен встречающихся в Горном Алтае художественных мотивов — две геральдически сопоставленные лошадиные головы, украшение седельной луки из пятого Пазырыкского кургана и лошадиные же головы в бронзовых пластинках из таштыкских склепов. Пример неудачный, так как материал, форма, назначение этих вещей, стиль воспроизведения голов, детально проработанный в Пазырыке и условно схематичный в Уйбате, ничего общего между собой не имеют.
Второй пример. В качестве аналога деревянному сосуду (с ручкой-сучком) из второго Пазырыкского кургана приводится подобный же деревянный сосуд и его миниатюрные воспроизведения из бронзы из минусинских погребений рубежа нашей эры. Но ведь подобные же сосуды нам известны и в ранних погребениях, имеются они и в современных этнографических коллекциях из Средней Азии и Казахстана. Далее перечисляются «сарматские» вещи из погребального инвентаря Пазырыкских курганов, а именно: круглые деревянные бляхи с выпуклой центральной частью от уздечного набора, каменная жаровня на четырёх ножках, деревянный круглодонный сосуд с ручкой-колодкой, золотые серьги с подвесками, серебряное зеркало с ободком и выпуклостью в центре.
Круглые деревянные бляхи с выпуклой центральной частью из сарматских погребений мне неизвестны.
Каменные жаровни, по признанию рецензентов, встречаются в сарматских древностях, датируемых не позднее IV в. до н.э., что, казалось бы, свидетельствует в пользу моей датировки Пазырыкских курганов. К сожалению, тот предмет из второго Пазырыкского кургана, который рецензенты называют жаровней, в действительности — светильня и ничего общего с сарматскими «жаровнями» не имеет ни по форме, ни по назначению. Деревянный круглодонный сосуд с ручкой-колодкой, по-видимому, сопоставляется с известной золотой чашей из Новочеркасского клада, имеющей существенно отличную от пазырыкского сосуда форму и ручку в виде скульптурной фигуры копытного животного. Плохая аналогия.
Золотые серьги из цилиндрика с подвесками. Рецензенты упрекают меня в том, что я оставил их без аналогий, между тем как подобный же золотой цилиндрик, как они предполагают, от серьги найден в кургане №27 Ноин-Улы. Упрёк этот несправедлив, так как при анализе серёг, о которых идёт речь, я ссылаюсь на ювелирные изделия, найденные Морганом в известном женском погребении в Сузах. В данном частном случае важен вопрос, могут ли подобные ювелирные изделия с зернью служить критерием для датировки памятников? Приём использования зерни в ювелирных изделиях — древний и уходит в микенский период. В Малую Азию и Иран техника украшений ювелирных изделий зернью была перенесена в VII в. до н.э. с греческих островов. Впослед-
(304/305)
ствии она получила весьма широкое распространение как в Европе, так и в Азии по крайней мере до первых веков нашей эры включительно.
Серебряное зеркало из второго Пазырыкского кургана состоит из двух склёпанных между собой половин, одной плоской и другой рельефной, с пустотой между ними. Зеркало это пока уникально. Подобных ему нет не только в сарматских изделиях, но и вообще неизвестно, и я был бы очень признателен, если бы мне кто-нибудь указал на подобное зеркало, найденное где-либо.
Рецензенты в качестве аналогии ссылаются на медное зеркало с короткой ручкой и на кожаную диадему с петушками из того же второго Пазырыкского кургана. Рецензенты указывают, что подобный тип зеркал характерен для сарматских зеркал III-II вв. до н.э. Это правильно, но он же встречается и в более ранних погребениях V-IV вв. до н.э. (Покровские и Прохоровские курганы Чкаловской обл.). Пазырыкская «диадема» представляет собой ремешок с нашитым на него рядом вырезанных из кожи петушков. Большая диадема из Новочеркасского клада, с которой она сопоставляется, состоит из широких золотых пластин, украшенных халцедоновым бюстом римской императрицы и крупными вставками аметистов и гранатов. По верхнему краю диадемы припаяны изображения деревьев, оленей и уток. По нижнему краю прикреплён ряд подвесок тонкой ювелирной работы. Что же общего между этими двумя предметами и как можно в серьёзном археологическом издании приводить подобные аналогии для датировки серии памятников?
Рецензенты пишут, что перечень аналогий горноалтайских древностей с сарматскими можно было бы ещё пополнить, но я полагаю, что достаточно и этих, чтобы убедиться в полной безнадёжности защиты позиции, занятой рецензентами.
Пренебрежением к восточным аналогиям рецензенты объясняют мою ошибку в датировке горноалтайских находок скифским, а не гунно-сарматским временем. В силу тех же причин, как полагают рецензенты, я уклоняюсь от обсуждения совершенно иной точки зрения на горноалтайские курганы, которая существует в археологической литературе и хорошо аргументирована С.В. Киселёвым, относящим эти горноалтайские памятники к гунно-сарматскому времени, а именно — не ранее III в. до н.э.
Мои соображения о предлагаемой С.В. Киселёвым датировке Пазырыкских курганов изложены мною в работе «Культура населения Горного Алтая в скифское время» (стр. 346-348) и здесь повторяться я не буду. Остановлюсь только на доводах, которые приводятся рецензентами в доказательство «гуннского» времени горноалтайских курганов. Речь идёт о совершенно будто бы сходном устройстве погребальных камер гуннских шаньюев в Ноинулинских курганах I в. н.э. и горноалтайских. Эта аналогия вряд ли удачна. Что же общего между горноалтайскими и ноинулинскими погребальными сооружениями? Только устройство погребальной камеры, да и то далеко не одинаковой конструкции, и драпировка стен войлоками. В могильные ямы Ноин-Улы ведёт дромос, в горноалтайских он отсутствует. Все гуннские захоронения в гробах, в Горном Алтае — в саркофагах-колодах. В гуннских курганах нет захоронений коней, во всех горноалтайских они обязательно имеются. В ноинулинских мы имеем положенные в знак траура отрезанные косы, в горноалтайских их нет.
Обращаясь к связям древних горноалтайцев с Китаем, рецензенты пытаются доказать, что эти связи появились не ранее ханьского времени. Какие же приводятся доказательства?
Утверждается, что орнаментация пазырыкских тканей ханьская. Это утверждение бездоказательно. Из сопоставления пазырыкских шёлковых тканей с ноинулинскими очевидно, что ни по технике выполнения этих тканей, ни по орнаментации нет вполне сходных, если не считать простые ткани полотняного переплетения, бытующие в Китае в течение тысячелетий. Неправильно рецензенты относят китайское зеркало из белого металла из шестого Пазырыкского кургана ко II в. до н.э., ссылаясь на работу Крюммеля (1930). Я в своей работе придерживаюсь более авторитетной датировки Умехары и Сваллоу, разделяемой Е. Чайльдом (VI-III вв. до н.э. — Antiquity, №12, 1954).
(305/306)
Мою значительную ошибку рецензенты книги усматривают в том, что я смешал воедино все алтайские памятники эпохи, по их выражению, ранних кочевников, среди которых имеются и более ранние и более поздние. Что касается более ранних, т.е. VII-VI вв. до н.э., то их я в рецензируемой работе не касаюсь, что же до более поздних, например, Шибинского кургана, то, вслед за М.П. Грязновым, я не могу датировать его временем I в. до н.э. — I в. н.э. по нахождении в этом кургане пресловутых китайских лаковых чашечек 86-48 гг. до н.э. (а не 86 г. до н.э. и 48 г. н.э., как пишут рецензенты). Однако это тема особая, не имеющая отношения к рассматриваемой книге.
Таким образом, авторы рецензии ничем мне не помогли в уточнении датировки горноалтайских находок. Тем не менее положительная сторона рецензии заключается в том, что она ярко показывает археологам, особенно молодым, с какой осторожностью следует прибегать к аналогиям в датировке археологических памятников, чтобы не впасть в ошибку.
Так обстоит дело с датировкой, что же касается исторических выводов, то они совершенно очевидны. Они с исключительной для археологических памятников полнотой, раскрывая богатую и своеобразную культуру населения Горного Алтая в скифское время, показывают, что культура эта не была изолированной. Культура эта представляла собой часть той общей культуры, которая была в середине I тысячелетия до н.э. присуща в Азии массагетам и сакским племенам античных авторов, юэчжийским китайских источников, в Европе — племенам скифским, включая и собственно скифов. Последнее вполне естественно, если принять во внимание не подлежащее теперь сомнению азиатское происхождение скифов и те оживлённые связи, которые в отдалённую эпоху имелись между подвижными коневодческими племенами евразийских степей.
Второй не менее существенный вывод заключается в том, что в данную эпоху существовали тесные связи этих племён не только с греками в области Причерноморья, но и в Азии, с государствами Передней Азии и Китаем, причём связи эти распространялись и на Горный Алтай.
Я далёк от мысли, что у культуры, вскрытой раскопками в Горном Алтае, не было связей с культурами сарматов и гуннов. Напротив, я убеждён в том, что связи эти имеются, так как сарматская культура является непосредственной преемницей культуры скифской или сакской, в широком их понимании. В меньшей степени наследие горноалтайской культуры прослеживается в культуре гуннов.
Я специально не занимаюсь ни сарматской, ни гуннской культурой, для тех же, которые ею занимаются, благодарной задачей будет проследить тот вклад, который культура евразийских степных племён скифского времени внесла в последующее развитие специально сарматской и гуннской культур.
Меня часто упрекают в том, что я занимаюсь исследованием почти исключительно курганов родо-племенной знати, игнорируя погребения рядовые, основной массы населения, и в этом усматривают односторонность привлекаемого мною археологического материала. Малые курганы исследовать проще и легче. Материалом, добытым из таких курганов, я не пренебрегаю, но в них мы, учитывая, что и они в большинстве своём ограблены, помимо скелетов и скудного инвентаря, почти ничего не находим. Иное дело большие горноалтайские погребения племенной знати, хотя и ограбленные, но скованные курганной мерзлотой. Поэтому меня удовлетворяет признание рецензентов, которые пишут, «что несмотря на односторонность археологического материала, добытого лишь из курганов родо-племенной знати, С.И. Руденко удалось показать широкую и разностороннюю производственную деятельность, высокую культуру и широкие культурные связи древнего населения Горного Алтая».
В заключение я хотел бы выразить своим товарищам пожелание, не останавливаясь перед трудностями, шире развернуть работы по раскопкам больших курганов в полной уверенности, что их труд будет возмещён сторицею.
|