|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Период |
Этапы периода |
|
годы |
содержание |
|
1. «Учёных путешествий» —
|
1700-1725 |
Предпосылки выделения археологических знаний в корпусе исторической науки, создание Академии наук. |
1725-1774 |
Сибирские путешествия учёных-энциклопедистов, научная деятельность В.Н. Татищева. |
|
1774-1825 |
Путешествия исследователей классической и славянской древности, зарождение классической и славянской археологии. |
|
2. «Оленинский» —
|
Научно-исследовательская деятельность Академии художеств, императорского Эрмитажа, создание Петербургского археолого-нумизматического общества. |
|
3. «Уваровский» —
|
Ранний этап
|
Создание системы научных центров археологии в Петербурге (АК—ИЭ—РАО). |
Зрелый этап
|
Создание системы научных центров археологии в Москве (МАО—РИМ—АС). |
|
Поздний этап
|
Развитие первобытной, классической, скифской, славянской, зарождение кавказской, восточной, финно-угорской археологии на основе, «бытописательской парадигмы», направляемое деятельностью III-VI АС. |
|
4. «Постуваровский» —
|
1884-1893 |
Дифференциация подходов на основе кризиса бытописательской, частичного освоения эволюционистской и развитие сменяющей её этнологической парадигмы. |
5. «Спицынско-городцовский» —
|
1899-1910 |
Систематизация фактических материалов с применением к ним понятий «тип» и «культура». |
1910-1915 |
Обобщения по отдельным разделам археологии (первобытной, классической, скифо-сарматской, византийской, славяно-русской, кавказской, восточной, финно-угорской, кочевнической) и по археологии России в целом. |
|
1916-1918 |
Постановка перспективных задач и формирование концептуальной базы их решения. |
|
2. Фундаментальная база науки. ^
Основу представлений о культурно-историческом процессе на территории российской Евразии составили прежде всего сосредоточенные в музейных коллекциях и накопленные в ходе раскопок материалы вещественного фонда российской археологии. Свыше 70 музеев, созданных в столицах, губернских городах, местных центрах и даже усадьбах, образовали достаточно разветвлённую, с элементами специализации, сеть хранений. Центральными были два музея страны — Эрмитаж в Петрограде и Исторический музей в Москве. В подборе и организации материалов этих музейных центров, направленности их исследовательской деятельности отразились различные этапы развития отечественной археологии.
Эрмитаж, создававшийся в эпоху господства классицизма, в своих экспозициях воплощал традиции сравнительно-исторического подхода, ориентированного прежде всего на античную культуру (как на высшее из достижений прошлого). Древности с территории России демонстрировали прежде всего её участие в развитии этой культуры причерноморских полисов, взаимодействие с восточно-европейской скифо-сарматской культурой, цивилизациями Древнего Востока, Византии, раскрывая место страны во всемирно-историческом культурном процессе средствами традиционной академической гуманистики. Также традиционным здесь был и высокий уровень технико-методических требований, строгого формального анализа, соотнесения с достижениями мировой науки.
Исторический музей в Москве (Российский, ныне — Государственный исторический музей — РИМ; в наши дни — ГИМ) формировался в период наивысших достижений «бытописательской археологии» и её наибольшего приближения к парадигме эволюционистов. В определённой степени это отразилось и в последовательно-эволюционном подходе к освещению древних культур, восходивших от первых достижений первобытности в условиях каменного века к созданию самобытной русской культуры. Стремление к максимальному охвату отечественного материала, его непрерывному пополнению, систематизации и обобщению правомерно сделали РИМ ведущим национальным центром археологической науки.
Наряду с Эрмитажем в Петербурге — Петрограде последних предреволюционных лет действовал ряд других музеев, дополнявших своими материалами «археологическую картину мира». Среди них заметное место занимал формировавшийся на основе Кунсткамеры Музей антропологии и этнографии (в 1918 г. В.В. Радлов, ведущий исследователь Сибири, выдвинул проект его преобразования). Здесь, благодаря усилиям акад. С.Ф. Ольденбурга, археологические коллекции были пополнены уни-
кальным собранием буддийских икон и культовой пластики из «пещеры Тысячи будд», в целом же коллекции охватывали хронологический период, начиная с каменного века, в территориальном отношении — от Скандинавии до Монголии. Этнографический материал, собранный по принципу глобального отражения культурного развития, опирался на серьёзную археологическую подоснову.
Русский музей в составе Этнографического отдела, наряду с этнографическими коллекциями (выделенными позднее в самостоятельный Музей этнографии народов СССР), также сосредоточил значительный археологический материал: от раскопок Старой Ладоги и других древнерусских памятников до находок экспедиции П.К. Козлова, исследовавшего Хара-Хото и другие памятники Монголии. Археологическим собранием (со времен H.Е. Бранденбурга) располагал также Артиллерийский музей. По инициативе А.А. Спицына, было начато формирование археологического кабинета в Университете (им заведовал погибший в бою под Августовом 19 сентября 1914 г. талантливый археолог А.В. Тищенко). [45]
Москва, наряду с Историческим музеем, собраниями Оружейной палаты, Патриаршей ризницы в Кремле, также располагала Антропологическим кабинетом в Университете, где, в отличие от Петербурга, традиция комплектования археологических коллекций насчитывала более полувека. Последние предреволюционные годы с кабинетом была связана деятельность активного исследователя древностей Северо-Запада А.И. Колмогорова. Тесно сотрудничал с Университетом и В.А. Городцов.
Крупные музеи сформировались при непосредственном участии университетов и научных обществ Одессы, Киева, Тифлиса, Казани, заметными музейными центрами стали также Екатеринослав, Смоленск, Тверь, Нижний Новгород, Саратов, Пермь, Ташкент, Томск; мартьяновский музей в Минусинске, коллекции Тенишевой в Смоленске, Передольского — в Новгороде, Уваровых — в Поречье, Лихачёва и Заусайлова — в Казани, и ряд других также имели значение музейных собраний всероссийского масштаба. Материалы многих из них были опубликованы главным образом усилиями АК и МАО.
Издательский фонд опубликованных к 1917-1918 гг. трудов составлял неотъемлемую и исключительно важную часть научного наследия дореволюционной археологии. К концу деятельности археологических организаций старой России в 1918 г. были осуществлены следующие издания Археологической комиссии: 46 томов ОАК, 37 выпусков MAP, 66 томов ИАК, свыше полуторасот «переплётов» только периодических изданий составили внушительную библиотеку. РАО в Петербурге выпустило 26 томов ЗРАО, 46 — «Записок» по отделениям РАО, 22 тома Трудов РАО, 10 — «Известий».
В результате деятельности Московского археологического общества было опубликовано: 25 выпусков фундаментальных «Древностей», 25 — «Древностей» по отделениям МАО, 14 выпусков МАК, 10 — Материалов по археологии восточных губерний России. Главное издательское предприятие МАО — Труды археологических съездов — составили серию из 40 томов.
Из числа местных научных центров наиболее высокой активностью отличалось Одесское общество, которое опубликовало 32 тома «Записок ООИД», и Общество археологии при Казанском университете — 29 томов «Известий ОАКУ». Если учесть также систематически появлявшиеся авторские монографии, переводы зарубежных изданий (а наряду с ними русские исследователи широко пользовались и оригиналами), то объём нормативной археологической библиотеки, освещавшей состояние развития отечественной археологии и обеспечивавшей дальнейшую научную работу, следует определить не менее чем в 500 томов.
Собрание археологических изданий было не только обширным, информативным, но и громоздким. Остро не хватало указателей, справочников, энциклопедических словарей, уже прочно входивших в обиход зарубежной науки. Неудачей окончились и попытки создания оперативного археологического журнала (археология отчасти освещалась в рубриках художественных журналов «Старые годы» (1907) и «Столица и усадьба» (1919)). Кроме «Первобытной» и «Бытовой археологии» В.А. Городцова, русская наука не могла предложить читателю, особенно начинающему, компактных и ёмких монографий, руководств, учебных пособий по отечественной археологии. Овладение её материалом во многом зависело и от доступности, полноты, систематичной организации необходимого книжного фонда, представленного в том или ином конкретном научном центре.
Нерешённой в значительной мере оставалась и задача организации археологического преподавания. В Петербургском университете на историко-филологическом факультете регулярный курс лекций по русской археологии читал А.А. Спицын, а на биологическом факультете преподавал первобытную археологию Ф.К. Волков. В Москве преподавание основных разделов археологии, которое вёл В.А. Городцов, носило более систематичный характер, основой стала его двухтомная монографическая работа. В Киеве археологические курсы читал В.Е. Данилевич. Сложившейся системы, на единых методических принципах, с равномерным освещением всех разделов археологии дореволюционная наука создать так и не смогла. Механизм передачи культурной традиции, с планомерным освоением фонда источников, исследовательских навыков и установок, складывался стихийно даже в пределах одного научного центра.
Исторически сложившаяся неравномерность развития отдельных разделов при тематической дифференциации местных школ и неравномерной изученности разных регионов страны (подрывавшая возможность своевременных и глубоких обобщений) также тормозила научное развитие в центре, но особенно на национальных окраинах страны. В изучении таких важных в культурно-историческом отношении регионов, как Кавказ и Средняя Азия, замедленное освоение археологических источников отрицательно сказывалось и на развитии представлений об историческом прошлом как этих, исключительно значимых регионов, так и связанных с ними обширных территорий древних «культурных миров» не только России, но и зарубежных стран. Действовавшие негативные тенденции сложившаяся до революции научная структура лишь закрепляла и усиливала. Создавалась ситуация, осознававшаяся всё более болезненно как нарастающее отставание от мирового уровня. Акад. Б.Б. Пиотровский, которому пришлось в советское время одному из первых сосредоточиться на преодолении этого отставания и развернуть принципиально важные работы в Закавказье, отмечает: «Сводные работы по археологии Кавказа, обобщение добытого раскопками материала, были в значительной мере затруднены неравномерной изученностью отдельных районов Закавказья. И в то время как некоторые памятники... подвергались неоднократным исследованиям, получив славу основных археологических объектов, целые районы Закавказья в археологическом отношении оставались совершенно неисследованными. На археологической карте Закавказья места раскопок могли быть отмечены всего несколькими, оторванными друг от друга группами знаков. В таком положении находилось археологическое изучение древнейшей культуры Закавказья до Великой Октябрьской революции». [46] В таком же положении находились и многие другие регионы страны, если не всегда столь же насыщенные первоклассными материалами всех эпох, как Кавказ, то не менее важные для воссоздания целостной и полной картины культурно-исторического развития. Это, однако, делало невозможной консолидацию методов и принципов исследования, распространения на весь объём отечественного материала теоретико-методологических элементов складывавшейся новой научной парадигмы.
3. Методы исследования. ^
Сопоставляя русскую археологию с зарубежной, В.И. Равдоникас в 1930 г. писал: «Такие фигуры, как Эванс, Монтелиус, Мортилье и мн.др., олицетворяют целые этапы в научном развитии. Можно ли назвать хоть одно имя из многочисленных русских археологов, которое законно было бы включить в этот ряд имён? Да, у нас были и есть учёные с мировым именем,
сделавшие вклады в мировую культуру... но в других науках, не в археологии. Монтелиусов у нас нет». [47] На самом же деле, если, возможно, и трудно выделить в отечественной археологии имена, подобные перечисленным Равдоникасом, то всё же нельзя игнорировать тот факт, что российская наука в своём развитии сравнялась с западноевропейской, достигла «синхронизации темпов» именно к тому времени, когда парадигма эволюционистов уже исчерпала свой потенциал. Археологи России начала XX в. работали на методическом уровне, не уступавшем, а порой и опережавшем уровень их зарубежных современников, и контуры новой парадигмы, складывавшиеся в работах М.И. Ростовцева, Б.В. Фармаковского, были значительно продуктивнее действовавшей «этнологической археологии» (в реализации которой А.А. Спицын проявил себя более строгим и глубоким исследователем, чем, скажем, Г. Коссинна). Методические поиски В.А. Городцова, а затем и его советских учеников шли в том же направлении, что и поиски ведущих учёных скандинавской, а позднее американской научных школ в археологии. Кризис российской археологии 1890-х годов был и методологическим кризисом мировой науки, а самые перспективные направления выхода из этого кризиса были определены прежде всего в российской археологии и продолжались после 1917 г. Но прорыв советской археологической школы прежде всего был решением нерешённых задач, к которым пришла в своем развитии и которые осознала, сформулировала (наметив принципиальные пути движения) дореволюционная археология, по крайней мере в лице немногих, но наиболее талантливых своих представителей.
Жёстко и критически оценивая наследие прошлого, советские археологи-стадиалисты начала 1930-х годов неизбежно упрощали действительную картину развития дореволюционной археологии. Правда, В.И. Равдоникас, стремясь проследить взаимосвязи научных течений с социальными процессами и отношениями классов старой России, при этом отмечал принципиально важные различия между основными подходами: художественно-историческим «формальным искусствознанием», теоретизированным дедуктивно-классификационным «формальным вещеведением» городцовской школы, которая противопоставлялась спицынскому «эмпиризму», а по существу — индуктивно- аналитическому направлению. Для М.Г. Худякова, продолжателя исследования Равдоникаса, определяющей стала именно «социологическая» основа историографии — действительное многообразие теоретических взглядов дореволюционных археологов он сводил к господству (в качестве главенствующей теоретической базы) «расовой теории». [48] К ней возводились и с ней связывались наиболее распространённые среди исследователей, придерживавшихся «этнологической парадигмы», теория миграций и теория заимствований (диффузионизм).
Расовая теория, если иметь в виду взгляды «венской школы», в русской науке никогда не была представлена в законченной и безусловной форме. Конечно, особенно во второстепенных, подражательных и популяризаторских работах можно найти шовинистические противопоставления славян — финнам, тюркам и другим «инородцам». Однако эти работы никоим образом не следует связывать с трудами А.А. Спицына, который в ряде случаев исходил из тезиса о более высоком, сравнительно с автохтонным, потенциале культуры славян, предопределившем быструю ассимиляцию земледельческим славянским населением местных неславянских племён, что, по его мнению, было решающим фактором формирования древнерусской народности. Обоснованный материалами IX-XI вв., этот вывод не утратил своего значения и для современной науки. [49]
«Теория миграций», ставшая едва ли не основным объектом критики стадиалистов, действительно, широко и в ряде случаев вполне обоснованно привлекалась А.А. Спицыным для объяснения смены археологических культур. В развёрнутом виде миграционные построения использовал для объяснения смены в причерноморских степях эпохи бронзы трипольского населения, передвинувшегося к Дунаю, ямным, за ним катакомбным и срубным и В.А. Городцов: «Ямный народ распространялся в южной России широким морем, захватывая всю область по низовьям рек Волги, Дона и Днепра... Позже явился народ, хоронивший своих мёртвых в катакомбах... Ещё позже явился срубный народ, занимавший обширную площадь на север от истоков Донца и Дона и на запад — до берегов Днепра и, вероятно, далее». [50] «Миграции», таким образом, связывались непосредственно с первым опытом крупномасштабного обобщения материала по первобытным культурам России, построенного В.А. Городцовым на исследовании классических степных культур эпохи бронзы (первая русская археологическая работа с развёрнутым теоретическим аппаратом, который унаследовала в 1920-е годы городцовская школа советской археологии).
«Теория заимствований» также полнее всего представлена в концепции В.А. Городцова; он описывал на её основе систему цивилизаций и культур эпохи бронзы: «Самою важною задачей исследуемой поры является установление культурных течений и влияний... В пору бронзовых орудий... Египет и Иран, или, правильнее, Средняя Азия, начинают играть роль вполне самостоятельных культурных очагов. Соединение этих пунктов образует, несомненно, культурную базу поры бронзовых орудий. Каждый из названных трёх очагов стремится выслать во все стороны лучи своих культурных влияний... Исходя из различных очагов, культурные лучи местами пересекали друг друга, образуя ряды новых культурных очагов, из которых некоторые к концу поры успели приобрести также первостепенное значение: ...Малая Азия и Финикия... Индия, Китай и Сибирь
(р. Енисей). Под культурным воздействием всех этих очагов возник ещё новый ряд очагов... на берегах р. Камы... венгерский очаг, влиявший в свою очередь на северогерманскую и скандинавскую культуры». [51] В этом впечатляющем и образном очерке сеть культурных центров эпохи бронзы установлена принципиально правильно, а выделенные Городцовым «кавказский» и «камский очаги», как, впрочем, и в целом система взаимосвязей для обширного района Евразии, спустя более полувека получили подтверждение, основанное на металлографическом исследовании, которое на новой методологической основе провёл Е.Н. Черных. [52] Таким образом, городцовская методология не была «неверна», как утверждали стадиалисты, но ограничена описательным уровнем исторических явлений. Тем не менее на методологии Городцова основаны вполне определённые, безусловные достижения, прочно вошедшие в фонд мировой науки и ставшие надёжной базой дальнейших исследований.
Критику стадиалистов вызывало и установившееся в археологии начала XX в. «представление об отдельной, самостоятельной культуре как элементарной ступени к первичному обобщению». В 1934 г. М.Г. Худяков, раскрывая ограниченность этого представления, писал: «Понятие „культуры” сводилось к представлению об отдельных предметах одной определённой эпохи и одной территории, объединённых формальными признаками». [53] В 1964 г. советский археолог А.П. Смирнов, подводя итог теоретической дискуссии, пришёл к заключению, что «большинством археологов термин „культура” применяется в отношении памятников одного времени, расположенных на строго очерченной территории и отличающихся своеобразными чертами материальной культуры». [54] Почти дословное, а в содержательном отношении — безусловное совпадение со взглядами, тремя десятилетиями ранее вызывавшими в советской науке жёсткую критику, свидетельствует о том, что в сложном пути к углублению содержания понятия «археологическая культура» взгляды археологов начала XX в. составляли необходимую и верную ступень. Первичный круг задач в изучении культур с позиций этнологической парадигмы сводился к установлению их датировки, племенной (этнической) принадлежности и исходной территории миграции: эти задачи Спицын решал применительно к дьяковской, Городцов — фатьяновской, катакомбной, сейминской и многим другим культурам. Самим же термином «культура», прочно вошедшим в обиход русской археологии с 1901 г., были обозначены крупные археологические общности, реальное существование и значение которых полностью было подтверждено последующими разработками советских археологов. По существу же, все основные культуры эпохи металла были уже выделены и определены в дореволюционных работах.
Углублённое исследование содержания понятия «археологическая культура» требует глубокой разработки взаимосвязанного с ним понятия «тип». В типологиях начала века, основанных на дедуктивно-классификационном подходе (и в России, и на Западе), по словам В.И. Равдоникаса, «эволюционный закон абстрагирован от живого мира». Ограничения, которые накладывались этим подходом, не следует считать специфичными лишь для археологии, а тем более — только российской. Типологический метод в археологии есть спецификация формально-сравнительного метода, широко применяющегося и в естественных, и в гуманитарных науках: лингвистике, истории литературы, истории искусств, этнографии. Связанные с его развитием методологические проблемы активно обсуждались и интенсивно разрабатывались в мировой археологии с различных мировоззренческих позиций. Перспективной попыткой преодолеть ограниченность познавательного потенциала эволюционных «типологических рядов» был предложенный во второй половине 1920-х годов А.В. Арциховским и другими учениками В.А. Городцова «метод восхождения»: типы орудий (расценивавшиеся как прямые показатели уровня производительных сил) рассматривались в увязке с типами жилищ, поселений, погребений, затем дополнялись анализом комплексов инвентаря отдельных жилищ, погребений и т.д. [55] Это направление, вызвавшее суровую критику В.И. Равдоникаса (именно за тесную связь с типологическим методом), по существу, ставило те же исследовательские задачи, которые сам критик определял понятием «культурный комплекс». Острая полемика как с советскими учениками Городцова, так и с поколением дореволюционных археологов в конечном счёте отнюдь не способствовала прояснению и корректной постановке исследовательских целей.
В целом методической базе дореволюционной археологии была присуща неоднородность и противоречивость господствующих подходов. Но при этом в археологии были сделаны принципиально важные достижения в теоретическом аспекте, вполне сопоставимые, а подчас опережавшие мировой уровень. Выделенные средствами «художественно-исторического подхода» «иконографические типы» Н.П. Кондакова, по существу, были первооткрытием «культурных типов», к которым мировая археология подошла вновь спустя несколько десятилетий. В дореволюционной археологии были представлены и две основные исследовательские стратегии, действенные поныне: индуктивно-аналитическая с «эмпирическими типами» А.А. Спицына и «дедуктивно-классификационная», подводившая в разработках В.А. Городцова к выделению «условных типов», как их определила в дальнейшем американская «новая» и скандинавская «рациональня археология» (Л. Бинфорд, М. Мальмер в работах 1960-х годов). Притом уже в середине 1910-х годов русские
учёные осознавали ограниченность и недостаточность обоих господствующих подходов, намечали контуры новой, структурно-системной стратегии (исследования М.И. Ростовцева, по существу, дали первые блестящие её образцы). Именно такой подход, основанный на системном объединении классифицированных, функционально и типологически сгруппированных вещественных древностей (объединяемых в «комплекты памятников», соответствующие древним коллективам), в середине 1980-х годов выделил как наиболее продуктивное направление разработки методологии археологических исследований известный советский исследователь теоретических проблем археологии Ю.Н. Захарук (в статье, посвящённой столетнему юбилею классической работы Ф. Энгельса). [56] Ключевое для этой стратегии понятие о структуре культуры, представленное в дореволюционных работах М.И. Ростовцева, позднее, в 1950-1960-х годах, вновь, столь же детально и с теми же результатами, разрабатывалось в западногерманской археологии, в лице Г.Ю. Эггерса, Р. Хахманна, искавших творческую альтернативу коссинновской «этнологической парадигме». Русская наука начала эти поиски на тридцать лет раньше.
Методологические поиски ключей к «структуре культуры», развернувшиеся на авангардных линиях развития отечественной археологии, шли в контексте более глубокого и обширного мировоззренческого движения. Оно опиралось на все достижения отечественного и мирового культурного фонда, накопленного в крупнейших центрах страны, прежде всего в Москве и Петрограде предреволюционных (и революционных, в пределах первого советского десятилетия) лет. В Петроградском университете началась творческая деятельность учёного, впервые осознавшего и выразившего геологический масштаб и глобальную сущность культурно-исторического процесса. Акад. В.И. Вернадский, создатель учения о «ноосфере» (глобально организованной, управляемой человеческим разумом действительности), обобщая «философские мысли натуралиста» и объединяя естествознание и гуманистику, писал: «Эта новая форма биохимической энергии, которую можно назвать энергией человеческой культуры... является той формой биохимической энергии, которая создаёт в настоящее время ноосферу... разум есть сложная социальная структура, построенная как для человека нашего времени, так и для человека палеолита, на том же самом нервном субстрате, но при разной социальной обстановке, слагающейся во времени (пространстве — времени по существу). Его изменение является основным элементом, приведшим в конце концов к превращению биосферы в ноосферу... Сознание на нашей планете культурной биохимической энергии является основным фактором в её геологической истории». [57] Парадигма, по существу впервые реализовавшая потенциал «культурной энергии», незримо присутствовала уже в сознании: од-
нако её реализация в исторической перспективе обнажала парадоксальную суть проблемы, может быть, наиболее концентрированно выраженной именно в трагической судьбе Санкт-Петербурга — Петрограда — Ленинграда: культурно-энергетический потенциал, воплощённый в структурированном культурном фонде, может развиваться и накапливаться только при условии систематичности и непрерывности культурной традиции. И любое развитие, осуществляемое революционной «сменой парадигм», непременным условием плодотворности должно удержать непрерывность культурной традиции. Поколение за поколением российские интеллигенты от Феофана Прокоповича до отца Павла Флоренского должны были обращаться к разрешению этой диалектической загадки, с петровских перемен и до мартовских вьюг 1918 г., воплощённой, концентрированно до катастрофичности, самим существованием и сущностью города на Неве, Петербурга, где наивысшие достижения мировой культуры на основе отечественных ресурсов преобразовывались в качественно новые достижения (порой — шедевры финального совершенства). Гуманистика предреволюционных лет России подошла вплотную к осознанию глубоких глобальных перспектив, реализация которых заполняет ёмким и противоречивым духовным содержанием всё XX столетие. Отправной чертой этого осознания было формирование представлений об основах, истоках культурно-исторического процесса, и в лучших и главных своих достижениях российская археология выполняла свою общественную функцию в этом определении принципиальных перспектив культуры.
Перспективные задачи осознавались и достаточно чётко были сформулированы прежде всего в тех разделах археологии, где наиболее существенные результаты были достигнуты в историко-культурном обобщении вещественных материалов. Для осуществления таких обобщений необходима была систематизация источников. Именно эту задачу в первую очередь решило поколение Спицына — Городцова, и результаты их достижений во многом определили бесспорные успехи советской археологии первых послереволюционных десятилетий.
4. Систематизация материала. ^
Первобытной археологии, по существу сложившейся за тридцать с небольшим лет (на последних этапах развития отечественной археологии до 1917 г.), была присуща наибольшая неравномерность изучения различных разделов, что соответственно отразилось на состоянии их источниковой базы. Наименее разработан был её древнейший хронологический горизонт — палеолит. Ко времени появления в 1915 г. статьи А.А. Спицына «Русский палеолит», представлявшей собой чрезвычайно тщательную сводку полевых работ, на территории России было из-
вестно 13 палеолитических стоянок: Гонцы (1873), Карачарово (1877), Костёнки (1879), Сюрень I, Сюрень II и Волчий грот в Крыму (1879), Афонтова гора в Сибири (1884), Кирилловская в Киеве (1893), Томская (1896), Верхоленская гора (1897), Ильская на Кавказе (1898), Боршево (1905), Мезино (1908). В 1914-1915 гг. В.А. Городцов провёл на новом методическом уровне вторичное исследование первого из открытых в европейской части страны палеолитического памятника (стоянки Гонцы). Наиболее результативные исследования палеолита в дореволюционные годы были проведены Ф.К. Волковым на стоянке Мезино. В работах 1914-1915 гг. участвовали и представители нового поколения — ученики Волкова и Городцова (П.П. Ефименко, Л.К. Чикаленко, В.Г. Крыжановский, В.М. Щербаковский, С.А. Круковский). Исследователь палеолита П.И. Борисковский отмечает, что «именно в эти предреволюционные десятилетия положено начало комплексному исследованию палеолитических памятников с участием геологов и палеозоологов. Были созданы предпосылки для сложения отечественной школы изучения палеолита». [58] Дальнейшее усиленное развитие палеолитических исследований, несомненно, осознавалось как неотложная задача: отмеченная работа А.А. Спицына, как писал (в 1946 г.) С.Н. Замятнин, была «сигналом о бедственном состоянии у нас этой отрасли археологического знания». При столь ограниченном объёме источников вполне естественны и объяснимы неудачи первых обобщений по палеолиту, выполненных Ф.К. Волковым. Значительно пополнили фонд источников по палеолиту его ученики (уже после 1917 г.); через двадцать лет, к 1936 г., число палеолитических местонахождений на территории СССР выросло более чем в 10 раз и достигло 149; к 1941 г. стало известно в общей сложности около 300 палеолитических памятников.
К числу задач, успешно решённых в дореволюционный период, П.И. Борисковский относит вопрос о заселении ряда территорий Европейской России, Украины, Крыма, Кавказа в палеолите, выявление разных типов памятников, освоение методики раскопок, открытие замечательных образцов палеолитического искусства.
Материалы неолитических культур, в первую очередь стоянок льяловской и других общностей «ямочно-гребенчатой керамики» Волго-Окского междуречья, так же, как Севера европейской части страны и ряда других территорий, были изучены более систематично. Как и энеолитические культуры, начиная с фатьяновской и трипольской вместе с культурами бронзового века в степной и лесной полосе страны, они были освещены в двухтомном обобщении В.А. Городцова. Исследование основных культурных общностей с их установившейся номенклатурой, хронологическая последовательность, общая картина развития — все эти направления научных изысканий стали предме-
том пристального внимания археологов СССР, что было присуще и многим зарубежным научным школам. Характеристика первобытных культур в дореволюционной археологии была преимущественно описательной. К постановке крупных социологических проблем первобытности русская археология ещё только подходила (практически одновременно с мировой). Как и источниковедение палеолита, эта тема стала центральной в советской археологии второй половины 1920-1930-х годов и вскоре была успешно решена в первых социологических реконструкциях палеолитического общества. Совершенно бесспорно, однако, что важные предпосылки для быстрого выравнивания и даже некоторого опережения мирового уровня советскими исследователями палеолита были заложены ещё в последние предреволюционные годы.
Восточная археология в России, как и первобытная, складывалась сравнительно поздно, по сравнению с соответствующими разделами мировой ориенталистики. Здесь относительна быстрый прогресс был достигнут, благодаря общему высокому уровню отечественного востоковедения, которое развивалось в тесном контакте с лингвистикой, этнографией и историей путём непосредственного изучения материалов восточных культур и народов, обитавших в пределах Российского государства. Русские археологи в то же время активно осваивали достижения мировой ориенталистики и стремились внести собственный вклад в её развитие. К началу XX в. в Эрмитаже, Музее изящных искусств (Москва) и других российских собраниях был собран весьма представительный фонд древневосточных произведений искусства, письменности, материальной культуры. На этой основе значительных успехов достигла отечественная египтология: во время путешествий по Египту обширную коллекцию составил хранитель восточных древностей Эрмитажа В.С. Голенищев, издавший в 1891 г. описание египетских, а в 1897 г.— ассирийских древностей. Описание египетских древностей из провинциальных собраний России опубликовал в трёх выпусках «Записок Восточного отделения РАО» (XI, XII, XV) крупнейший русский исследователь Древнего Востока Б.А. Тураев, широко использовавший их в своих, ставших классическими, работах «История Древнего Востока» (1913-1914) и «Древний Египет» (1922). Эти исследования заложили фундамент древневосточной археологии, развитие которой требовало вовлечения родственных материалов, выявленных на территории России. В мировую науку прочно вошли такие памятники, как Кобанский могильник, служивший фактически единственным источником знаний о древнейшей культуре Кавказа. Русские учёные развернули начальные исследования урартских памятников. Как отмечает Б.Б. Пиотровский, «после работ М.В. Никольского к древностям Ванского царства стали проявлять живой интерес в России и за границей...
Обстоятельный очерк древневанского царства, с указанием намечающихся связей с южнорусским материалом, был дан Б.А. Тураевым во втором томе истории Древнего Востока, изданном в 1914 году». [59] В 1914-1916 гг. Н.Я. Марр и И.А. Орбели начали раскопки урартской столицы Ван.
Археологические исследования в Закавказье и Средней Азии охватили также средневековые памятники: раскопки Н.Я. Марра в Ани, историко-археологические исследования В.В. Бартольда, дальневосточные экспедиции П.К. Козлова и С.Ф. Ольденбурга определили широкий и перспективный фронт дальнейших работ.
Классическая археология изначально наиболее тесно была связана с западноевропейской наукой, её достижениями и взаимодействовала с ней, внося заметный и оригинальный исследовательский вклад в развитие мирового антиковедения. И именно в изучении классических древностей (с возобновления раскопок в Ольвии) ранее всего была установлена преемственность между дореволюционной и советской археологией. Эта преемственность опиралась на детально разработанную источниковедческую базу, представленную сводами В.В. Латышева, грандиозной серией публикаций нумизматического материала, фундаментальным исследованием по античной декоративной живописи М.И. Ростовцева, материалами раскопок Херсонеса, Ольвии, Пантикапейского некрополя и многих других памятников. Наибольшее значение для этого времени имели исследования Б.В. Фармаковского, получившие мировое признание.
Скифо-сарматская археология С.А. Жебелёвым и его современниками мыслилась лишь как «отдел классической археологии». Соединение профессиональных качеств «античника» и «варвариста» — непременное условие успешной исследовательской деятельности в той и другой сфере. Показателен в этом отношении научный путь М.И. Ростовцева — от углублённого изучения римской экономической истории перешедшего к исследованию античного искусства, затем к всестороннему анализу греко-скифских отношений и структурным сравнительно-историческим характеристикам восточноевропейских, скифо-сарматских археологических культур, завершившихся оценкой их места и роли в мировом культурно-историческом процессе. Итогом этого движения стало крупнейшее из достижений российской дореволюционной археологии — ростовцевская концепция «эллинства и иранства», определение культурно- исторической позиции «Скифии», Восточной Европы и преемственно связанной с её древними культурами Руси. Давшая начало поступательному процессу этого развития Скифия, русская степь, для Ростовцева была прежде всего «естественным продолжением могучего иранского культурного мира... тесно связанного с культурным миром Месопотамии. Через Кавказ южнорусские степи находились в ближайшем и тесном общении
с творческой культурой и государственностью Малой Азии и Закавказья... связь с средней Европой косвенно соединяет южнорусские степи и с греко-латинским миром... Степи юга России объединили в себе все названные выше, определяющие мировое развитие культурные струи». Зарождавшиеся на перекрестке этих творческих воздействий древних цивилизаций этнополитические образования, состав которых менялся от скифов к сарматам, от сарматов к готам и фракийцам, гуннам, аварам, славянам под действием мощных, трансконтинентальных факторов, связанных с образованием иных этнических массивов — угорских, тюркских, монгольских, включались в более широкий евроазийский исторический процесс: «Одно за другим культурные государственные образования южных степей России под напором могучих волн движущихся с востока народных масс проталкиваются всё далее и далее на запад и здесь вливаются в море среднеевропейской культуры, насыщая её новыми и творческими элементами». [60] Рождение Европы, той самой, «закат» которой в условиях глубокого кризиса гуманистических традиций буржуазной культуры в те же 1920-е годы мучительно осознавал Освальд Шпенглер (русский перевод его книги «Закат Европы» появился в 1923 г.), рождение европейской цивилизации, культурно-политического сообщества европейских народов средневековья и нового времени оказывалось неразрывно связанным с историей восточноевропейской «Скифии».
Созданная усилиями главным образом российских учёных, скифо-сарматская археология предреволюционных лет стала не просто дополнением античной, классической. По существу, на качественно новом материале была создана основа новой концепции исторического процесса, объективно противостоящая старой, «эллино-, романоцентрической», восходящей к ренессансной традиции Возрождения греко-римского культурного наследия. Греко-римский культурный мир выступал лишь как одна из ступеней всемирно-исторического развития, истоки которого следовало искать среди древних цивилизаций Передней Азии, Дальнего Востока, Северной Африки, связанных между собой множеством этнокультурных образований, историческое значение которых впервые оценивалось на материале степных, восточноевропейских и сибирских скифо-сарматских культур. Это был принципиально важный шаг от «европоцентрической» к современной глобальной картине всемирно-исторического процесса, в котором равную роль играют народы и культуры всех континентов.
Византийская археология, также создававшаяся прежде всего представителями русской науки, была следующим этапом разработки той же концепции: «греко-латинской» линии развития античной культуры противостояла пережившая её на тысячелетие «греко-восточная», восходившая к эллинистическому
культурному синтезу времён Александра Македонского и преемственно переданная славянским, а в наибольшей мере ведущей из них — русской культурной и государственной традициям. Археологическое византиноведение, определённый вклад в создание которого внёс уже А.С. Уваров, [61] трудами Ф.А. Успенского, Ф.И. Буслаева и в наибольшей степени Н.П. Кондакова в течение полувека превратилось в высокоразвитую научную дисциплину в методическом отношении со своей передовой теорией, огромным систематизированным фактическим фондом, развёрнутой концепцией. Как и в ориенталистике, археологическая дисциплина развивалась здесь в тесной связи с родственными специальностями, исторические труды В.Г. Васильевского, Д.Ф. Беляева и других служили важной опорой для археолого-искусствоведческих конструкций. Последние достижения накануне революции — выдвинутые в трудах Н.П. Кондакова и обоснованные «иконографическим методом» заключения о связи греческой и русской иконописи с итальянской живописью раннего Возрождения (питавшегося из этого «греко-восточного» источника). Всё более планомерные раскопки «римско-византийских» и «поздневизантийских» сооружений Херсонеса под руководством К.К. Костюшко-Валюжинича, а затем P.X. Лепера выявили около двух десятков храмов, мощные оборонительные стены, улицы, жилые комплексы, цистерны, зерновые ямы, архитектурные, вещественные, эпиграфические источники. Был воссоздан облик Херсонеса и оценено значение крупнейшего из полисов Таврики, связанного как с Византией, так и с окружающим осёдлым и кочевым населением, чем определялась его экономическая роль в течение ряда веков, вплоть до возвышения Киева и других древнерусских городов (по определению А.Л. Якобсона, советского исследователя Херсонеса, он являлся «экономическим средоточием Восточной Европы» [62]). Исключительное внимание, которое уделяла Археологическая комиссия Херсонесу, объяснялось в первую очередь тем, что, согласно «корсунской легенде» о крещении князя Владимира, именно Херсонес, летописный Корсунь, был «колыбелью христианства на Руси». Таким образом, византийская археология по своей тематике и интересам смыкалась со славяно-русской.
Точно так же византиноведение открывало «выходы» в совершенно иные, удалённые культурные миры, инициатива изучения которых принадлежала российским учёным: с византийским искусством непосредственно было связано христианское коптское искусство Египта и раннесредневековое искусство Эфиопии. В 1901 г. основные задачи источниковедения и изучения истории «Эфиопского царства, когда оно играло не последнюю роль во всемирной истории и принадлежало к числу культурных стран умиравшего античного мира», были сформулированы крупнейшим отечественным востоковедом Б.А. Турае-
вым, и реализация его исследовательских установок в советской исторической науке была осуществлена лишь спустя 70 с лишним лет. [63]
Славяно-русская археология последних предреволюционных лет в своём развитии очевидно уступала и скифо-сарматской, и византийской: та и другая могли опереться на взаимодействие с развитыми комплексами родственных антиковедческих дисциплин, а ни отечественная, ни зарубежная славистика не достигли ещё подобного уровня междисциплинарного взаимодействия (объективности ради следует заметить, что сопоставимый уровень не достигнут ещё и в наши дни, несмотря на резко возросший объём исследований в каждой из славяноведческих дисциплин, а скорее всего — именно в силу этого роста). [64] Однако и здесь, во-первых, были сделаны обобщения, составляющие основу славяно-русской археологии — от «Расселения древнерусских племён» А.А. Спицына (1899) к «Восточным славянам в VI-XIII вв.» В.В. Седова (1982). Во-вторых, исследованиями Н.И. Репникова, В.В. Хвойки, Б.В. Фармаковского был начат принципиально важный этап планомерного археологического изучения древнерусского города (ставший основным направлением деятельности советских археологов-славистов). В-третьих, была продолжена работа по систематизации поступавших материалов курганных раскопок, которую по-прежнему осуществлял А.А. Спицын. В 1928 г., подводя её итоги, он писал: «...тема о собственно русских древностях есть моя важнейшая тема. Я был занят ею во всём объёме, и снова мои издания являются здесь основными. Имеются две мои общие работы по этим древностям: „Расселение древнерусских племён по археологическим данным” (ЖМНП. 1899. VIII) и составленная в последнее время для издания общая карта русских древностей. В этих статьях данные древности взяты возможно глубже по времени и подвергнуты группировке, которая совпала в результате с летописными данными... изданы в моём изложении отчёты о раскопках Глазова в Псковской губ. в 1899, 1901 и 1903 гг. (ЗРАО XII и ЗОРСА V), его же в Новгородской губ. в 1903 г. (ЗРАО VII. В. 1), его же в Смоленской губ. в 1909 г. (там же. VII. В. 2), Сергеева, Гатцука, Арамова, Спицына, Ширинского-Шахматова, Лазаревича-Шепелевича... Для тех же древностей (словен новгородских) изданы ещё статьи ,,Сопки и жальники” (ЗРАО XI)... Самый большой альбом кривичских древностей даёт теперь моя работа ,,Владимирские курганы” (ИАК 15. 1905), представляющая собой главным образом переиздание известного старого труда гр. Уварова... Курганы вятичей отражены в статье о раскопках Милюкова (ЗРАО X. 1898), курганы северян и радимичей в отчёте о раскопках Еременко и Гатцука в Черниговской губ. (ЗРАО VIII, ИАК 29, 1896 и 1909 г.), дреговичей в статье о раскопках Завитневича (ЗРАО X, 1898)...» [65] Спицын оста-
вался в центре крупной работы по изучению древностей восточных славян, создавая систему археологических источников, освещающих возможно более ранние этапы славянской истории.
Итак, если и не по всем, то по основным разделам археологии (и в первую очередь созданным преимущественно в России — скифо-сарматской, византийской, славяно-русской) систематизация материалов, выполненная к 1910-м годам, позволяла в конце десятилетия выдвинуть обобщения со значительными и точными историческими выводами. Многие конкретно-исторические выводы, сделанные археологами России к 1917 г., были обоснованными и верными, и мы вновь и вновь обращаемся к результатам и заключениям Городцова и Спицына, Ростовцева и Фармаковского, понимая с отделяющей нас исторической дистанции, что при определённой ограниченности их методов они тем не менее ставили и решали исследовательские задачи таким образом, что полученные решения по сей день остаются действенными.
5. Постановка задач. ^
Специальных работ, обобщавших к 1917 г. весь комплекс перспективных исследовательских задач отечественной археологии, создано не было. Но в наиболее разработанных разделах археологии были сформулированы именно те исследовательские цели и пути подхода к ним, с которых в 1920-х годах начиналось самостоятельное развитие советской археологии. В 1918 г. среди петроградских археологов обсуждалась рукопись М.И. Ростовцева «Классические и скифские древности северного побережья Чёрного моря», о которой С.А. Жебелёв во «Введении в археологию» (1923 г.) вспоминал как о целостной программе исследований. Она включала: а) систематические раскопки древнегреческих городов — Ольвии, Херсонеса, Евпатории, Пантикапеи и Фанагории, Нимфея, Гермонассы, Горгипп и ряда других; б) раскопки догреческих поселений местного населения в зоне античной колонизации; в) отыскание руин древних храмов вне городов (т.е. обследование сельскохозяйственной округи, «хоры» греческих полисов) на Тамани и в других районах; г) изучение негреческих (т.е. скифских, фракийских и пр.) городищ по Днестру, Бугу, Днепру, Дону, Кубани, Волге, Уралу; д) сплошное расследование с определёнными (плановыми) и научными целями некрополей, греческих и негреческих, прекращение бессистемных раскопок; е) систематическое доследование больших курганов, частью разграбленных кладоискателями, частью не окончательно расследованных археологами; ж) производство всех раскопок при этом, не иначе «как при содействии опытных техников с широким применением фотографии и с составлением точных топографических и детальных планов и чертежей, с обращением особого
внимания на структуру и характер погребального или иного расследуемого соружения»; з) обязательное условие — «сохранение всего материала» без сортировки его и уничтожения «рядовых, невыразительных находок», обычных в практике того времени. [66]
И для античной, и для скифо-сарматской археологии эта «программа Ростовцева», безусловно, была актуальной, конкретной, действенной. Она аккумулировала весь накопленный опыт, выявляла неразработанные звенья, определяла методы исследования. Пункт за пунктом именно эта конкретная изыскательская стратегия была планомерно осуществлена уже с середины 1920-х годов исследователями Северного Причерноморья (причём в течение длительного времени; реализация некоторых пунктов была начата лишь в 1960-1970-х годах).
Экстраполировать эту конкретную и точную программу на другие разделы археологии, например славяно-русский (не говоря о более древних горизонтах), в 1916-1918 гг. было невозможно. Даже для классической археологии было необходимо, как отмечал Ростовцев в «Скифии и Боспоре», создание надёжной типо-хронологической системы; если в этом разделе она могла быть построена сравнительно легко путём синхронизации «местных» скифо-сарматских вещей, импортов, монет с точными абсолютными датами, то для других разделов требовались самостоятельное освоение и реализация методики типохронологических построений, осуществлённых в западноевропейской науке. Оптимальный путь заключался бы в координированном объединении «дедуктивной» и «индуктивной» стратегий Городцова и Спицына. Этого, однако, не произошло, и не только по источниковедческим причинам. Ревнивое соперничество научных школ, развивавшееся с «постуваровских» времён, мешало продуктивному сотрудничеству.
Полтора десятилетия спустя, когда А.В. Арциховский в работе 1930 г. «Курганы вятичей» попытался решить по сути именно эту, остававшуюся нерешённой задачу (дополнив её основанной на «методе восхождения» социологической интерпретацией), то не только методические разногласия, но и отголоски старого соперничества дореволюционных научных школ, восходившего к соперничеству Спицына и Городцова, очевидно, продиктовали весьма суровую оценку В.И. Равдоникаса: «Что же в сущности она (монография «Курганы вятичей». — Г.Л.) сообщает нам нового? На определённой, точно обозначенной на карте территории, жили вятичи, носили семилопастные височные кольца с кое-какими другими серебряными и бронзовыми вещами и бусами таких-то и таких-то типов и датировок, хоронили с XII века своих мёртвых в курганах, содержащих такую-то и такую-то культуру, и только. Но ведь все это было известно и ранее... и даже полнее, т.к. Спицын, как настоящий учёный, пользовался всеми доступными материалами, а А.В. Ар-
циховский почему-то лишь изданными и хранящимися в Историческом музее». Вольно или невольно В.И. Равдоникас опускал в работе А.В. Арциховского именно наиболее плодотворную, типохронологическую её сторону (словно бы «не замечая» отличия системной классификации от «эмпирических» спицынских), и сразу переводил вопрос в социометодологическую плоскость: «Если же подойти к этой работе с требованиями марксистской методологии, то впечатление нельзя назвать иначе, как тяжёлым и удручающим... Кто же примет всерьёз за моменты общественного развития эволюцию форм предметов украшений!» [67] Действительно, так прямолинейно экстраполировать типологические показатели в социальную сферу, как это делали городцовские ученики в первых своих поисках, не следует. Но типохронология — необходимое условие для выявления культурной структуры, от которой только и можно было бы (как и предполагал В.И. Равдоникас) перейти к социально-историческим выводам. Пропуск этого «процедурного шага» стал в конце концов источником методологической несостоятельности «социологизаторского схематизма» советских археологов-стадиалистов.
Российская археология миновала, «пропустила» эволюционизм вместе с наиболее сильной его методической стороной, типологией и основанных на ней хронологических системах с выделением относительных «ступеней» и установлением для них абсолютных дат. Да, рано или поздно это «гордое хронологическое здание» могло превратиться в «опасный мираж», но сначала его необходимо было построить. В русской дореволюционной археологии оно осталось недостроенным, это было её недостатком гораздо более существенным, чем «теория миграций».
Парадокс истории русской культуры заключался в том, что она не только была способна десятилетиями развиваться в условиях иной раз немыслимого политического гнёта, социального застоя, экономической отсталости, но и, аккумулируя лучшие народные силы и чаяния, напряжённым прорывом (концентрируясь в узких, порой изолированных друг от друга сферах культуры), преодолевать этот застой, гнёт, отсталость. Российская археология — неотъемлемая часть этой национальной культуры. Она зарождалась и по существу оформилась в застойные годы царствования Николая I; её наибольшие успехи совпали с эпохой реакции между двумя русскими революциями. Накапливавшееся отставание преодолевалось своего рода опережающим прорывом: от «карт типов» сразу к «структуре культуры», минуя скрупулёзные типохронологические разработки, — такова схема подъёма, осуществленного буквально сразу же после того, как была достигнута относительная «синхронизация темпов» развития с мировой наукой.
От «Скифской истории» Андрея Лызлова (1692 г.) до «Скифии и Боспора» М.И. Ростовцева (1918 г.) российская архео-
логия вместе со всей отечественной культурой прошла более чем двухвековой, значительный и ёмкий путь развития. В итоге, несомненно, определялись магистральные перспективы исследования и осмысления культурно-исторического процесса в уникальных масштабах пространства российской Евразии. Найдены были определяющие характеристики ключевой формулы национального самосознания, и вряд ли случайно с монументальным трудом Ростовцева перекликается заглавием и темой поэтическая рефлексия Блока («Скифы», 1918 г.). Евроазийская «Скифия» как культурно-историческое основание многоступенчатой пирамиды первобытных и древних культур, на котором основана объединяющая тайны синтеза «эллинства и иранства», героического варварства европейского Севера и высокой духовности Византии, одухотворённая и пронизанная славянской «открытостью» восприятий культура России, опирающаяся на богатство наследия Древней Руси, — вот найденный последним предреволюционным поколением археологов «ключ» к «коду культуры», который мы вправе числить одной из ценнейших находок в фонде наследия отечественной культуры «серебряного века». Вместе со всем этим наследием российская археология завершала свой путь, вступая в эпоху революционного переворота. Определяя итоговую оценку этого наследия, основания нашего отношения к нему, необходимо вновь сжато оценить не только изнутри науки, но и извне, в контексте общественно-политических условий, обстоятельства дальнейшего развития, определившие механизм передачи этого наследия следующим, вплоть до современных читателей, поколениям археологов.
6. Внутренние и внешние условия развития археологии. ^
В какой мере археология могла и готова была откликнуться на зов отечественной культуры, лучшие представители которой уже напряжённо вслушивались в «музыку революции»? Насколько она в состоянии была принять участие в совершавшемся перевороте общественной, политической, культурной жизни, связывала его значение с осуществлением собственных, внутренних целей развития?
Объективное состояние науки, её база, фактическая и методологическая, перспективы — ясны; они получили дальнейшее развитие в советской археологии ближайших десятилетий, а многое выдержало и достаточно жёсткие испытания временем. В первую очередь, необходимо уяснить, почему это развитие сопровождалось резкой ломкой научного аппарата, радикальным пересмотром всего наследия, неизбежными утратами? Здесь вступает в действие сложный комплекс причин,
возвращающий нас к вопросу, поставленному Равдоникасом в 1930 г.: всё-таки «почему нет Монтелиусов?»
Сопоставим два близких по времени ответа на этот вопрос.
«Я думаю, что ответ на этот вопрос нужно искать в том роковом для нашей археологии обстоятельстве, что она в своём развитии весьма долго была связана с самым архаическим, самым исторически регрессивным классом дореволюционного русского общества — с феодальным дворянством и даже с его верхушкой, с придворной аристократией» (В.И. Равдоникас. За марксистскую историю материальной культуры // ИГАИМК VII, 1930).
«Нигде так ясно не сказалось основное горе России, её первородный грех, её органическая беда, усиленная губительной политикой русского самодержавия. Пропасть, которая образовалась между русской интеллигенцией и массами населения, лишала и лишает русскую науку той базы, на которой она, по состоянию своих интеллектуальных, творческих сил, могла и должна была бы стоять... В России наука, настоящая чистая наука... жила исключительно государством... Но какова была эта поддержка? Науку официальная Россия поддерживала только как decorum, а не как жизненный орган, обеспечивавший её существование... До сих пор, можно сказать, поддержка науки в России государством была плохо прикрытой фикцией. Государство стремилось этим путём держать науку в своих руках, пользоваться ею, как послушным инструментом» (М.И. Ростовцев. Наука и революция // Русская мысль. 1917. №IX-X).
Да, зависимость от аристократической элиты и самодержавного государства оставалась «первородным грехом» российской археологии. Из её истории нельзя вычеркнуть призыва-приказа графини Уваровой, прозвучавшего в обращении 1911 г. к новому поколению на последнем, XV, Археологическом съезде: «Исполать вам, новые сотрудники! Но принять вас совершенно в нашу дружную тесную дружину можем только с условием, чтобы вы шли по стопам стариков: Погодина, Забелина, Бодянского, Буслаева и остальной фаланги настоящих известных учёных, держащих высоко знамя науки, не изменяющих ей из-за политических увлечений и считающих университеты всецело храмом науки».
Жёстким «условием Уваровой» до последних лет была связана деятельность археологической «учёной дружины». Но какова же была при этом условии её ударная сила? Творческая мощь? Социальное самосознание?
Виднейший из её представителей в 1917 г. определяет самосознание своих коллег в дореволюционные годы следующим образом: «Чувство моральной приниженности играет здесь, конечно, главную роль. Материальная необеспеченность окупается, говорят, высоким званием профессора и учёного, почётным по-
ложением. Этот „почёт” — фикция. Он еле-еле зарождается среди интеллигенции, и он абсолютно отсутствует в массах, которые не знают ни что такое наука, ни что такое учёный, для которых это только разновидность барина, или, как теперь говорят, буржуя; его не было и нет и в официальной России. Старая Россия боялась учёных, не верила им, ставила их в унизительное и тяжёлое положение. Не велик был „почёт" служить буфером между государством, которому учёная Россия не верила и с которым боролась вместе со всей интеллигенцией, и которое в свою очередь не верило учёным; и студенчеством, которое склонно было видеть в защите учёными — науки защиту ими — правительства» (М.И. Ростовцев. Наука и революция).
Даже заглавием своим выступление Ростовцева почти дословно совпадало со знаменитой, обращённой тогда же и к той же общественной среде, формулой Блока «Интеллигенция и Революция». Именно эта проблема во весь рост встала и перед российской археологией — при специфическом её «придворном» положении научной дисциплины, находившейся «в ведении Министерства Императорского Двора», почти не связанной с университетскими центрами и предельно тесно связанной с придворной камарильей, — но тем не менее развивавшейся не только, а к наступлению революции уже и не столько под действием этих условий, но и по своим внутренним законам; ставившей, решавшей и выдвигавшей новые задачи, при этом не отделяя их от задач развития отечественной культуры в целом.
Ведь археологическая «программа Ростовцева» 1918 г. предназначалась лишь для коллег, но она была выдвинута вместе с широкой программой культурного строительства, которую и излагала его статья в «Русской мысли» 1917 г.
Эта программа, в отличие от развёрнутой, «специальной», изложена в пяти кратких, но ёмких пунктах:
1) необходимость сети развёрнутых «во всех больших крупных городах настоящих больших научных библиотек по всем отраслям знания»;
2) условие подъёма науки — развитие «книжного дела, которое невозможно без длительной помощи всего народа, для которого это — насущная потребность, а не роскошь, т.е. без помощи государству», которое должно взять на себя выполнение этой общенародной задачи;
3) «создание армии научных работников, которой были бы поставлены определённые научные задания... сети научных организаций с определёнными целями», в ряду которых — систематизация источников, создание сети музеев;
4) организация университетского образования «как базы развития научно-исследовательских учреждений»;
5) «Нам нужна не грамотная Россия, а Россия культурная», — резюмирует Ростовцев свою программу, — «культура —
база всякого правильного и здорового социального строя... Если победа над буржуазией есть предпосылка появления настоящего справедливого социального строя».
По сути дела, археолог, обращавшийся к революционным силам, излагал программу социалистической «культурной революции», совпадавшую с декларациями и практикой Советской власти. И в рамках этой программы, по существу уже на следующий после отъезда Ростовцева («незабываемый 1919 год»), началась работа по реорганизации археологии российской — в советскую археологию.
7. Археология и революция. ^
Ростовцева, однако, терзали сомнения: разве сможет осуществить программу планомерного культурного строительства «самодержавие наименее культурных слоёв — крестьян, батраков и рабочих» (Наука и революция. С. 8). Да, возможно, для «прикладных наук, включая медицину», относительно их необходимости «не возникает сомнений даже в среде представителей крайних социалистических течений, включая, может быть, и ленинцев. Иное дело вся сумма гуманитарных наук. Считаются ли и они нужными указанными партиями — не знаю (курсив наш. — Г.Л.)» (Там же. С. 9).
Полемика, заключённая в выделенных строках, не столь безадресна, как может показаться: так уж распорядилась судьба, что М.И. Ростовцев оказался двоюродным братом одного из известнейших и наиболее осведомленных в грядущих судьбах культуры «ленинцев» — А.В. Луначарского. [68] Семьи эти тесно, в течение многих лет были связаны, и холодок взаимного отторжения, их разделявший, вероятно, распространялся и на размышления о грядущих судьбах России.
Мы знаем: М.И. Ростовцев сделал свой выбор, А.В. Луначарский — свой. Менее десяти лет спустя, в условиях недолгого нэповского «плюрализма» Марк Алданов подвёл первые итоги деятельности наркома просвещения, оценив его как торжествующее «воплощение бездарности в России» (Лит. газета. 13.09.1990). Наш современник в политике Луначарского видит одну из первопричин «чудовищного провала народного образования в разгар всемирной научно-технической революции». [69]
Опыт большевиков, оценённый спустя семьдесят лет во всём объёме понесенных страной и народом жертв, исчисляемых десятками (если не сотней) миллионов человеческих жизней, следует рассматривать, конечно, не только с учётом характеристик тех или иных конкретных личностей. И даже — системы, основы которой закладывались в 1918 г.
Кризис гуманистической культуры перед ее глобальной трансформацией, продолжающей разворачиваться через всё
беспримерное по своей напряжённости XX столетие, ранее и острее всего проявился в России. Пролетарская революция в этой стране стала трагическим прологом глобальной революции научно-технической (собственно, её предпосылки и должна была бы обеспечить, в частности, реализация ростовцевской программы). Но социализм, ценой жестокой концентрации усилий построенный в одной стране, тоталитарный сталинский социализм, не способен к этому по существу формационному переходу, ибо успешную научно-техническую революцию (в отличие от политической) силами одной страны совершить нельзя. Она требует глобализации человеческой деятельности.
И в этой деятельности решающим условием становится способность «отстоять и выстрадать идеал свободного исследования». Идеал интеллектуальной свободы, отстранённый от пафоса «Мировой революции», — выстраданной ценой двух мировых войн и отодвигающей третью, приближая становление общечеловеческой, «постиндустриальной цивилизации», возможной только в условиях свободы и мира. Но ведь полвека отделяют эти провидческие размышления акад. А.Д. Сахарова от «завязки» спора, начатого Луначарским и Ростовцевым. И ещё двадцать лет прошло, пока сахаровские мысли стали широко доступны для недальних потомков «крестьян, батраков и рабочих» 1917 г. [70]
Меру ответственности каждый в каждом поколении избирает для себя сам. Только ли совесть учёного, неспособного поступиться едва обретённой свободой перед грядущим «самодержавием» полувековой эры тоталитаризма, зловещие проблески которой вспыхивали винтовочными залпами террора 1918 г., — или подкреплял её самосохранительный порыв, классовый инстинкт «барина, или, как теперь говорят, буржуя», вполне могло статься, обречённого пополнить списки расстрелянных, — не нам судить о мотивах решения М.И. Ростовцева. И мы можем лишь склонить головы перед высокой жертвенностью тех, кто решил остаться. Однажды и навсегда. Выполняя высший из заветов русской интеллигенции: всегда и во всем разделить судьбу своей Родины и своего народа.
Ведь тот же выбор стоял перед умирающим В.В. Латышевым: он мог бы уехать, но остался — «держать корректуру» работы М.И. Ростовцева. Не в страшном 1918, а в спокойном 1922 г., легально и мирно могли выехать и присоединиться к нему Б.В. Фармаковский и С.А. Жебелёв. Они предпочли с помощью Н.Я. Марра «выбить» 1000 руб. и осуществить наконец издание «Скифии и Боспора».
Драматизм положения старых российских археологов состоял в том, что на них лежал высокий долг продолжения, возобновления и развития отечественной археологии, сохранения по мере сил её наследия и в той части, создатели которой встали «по ту сторону» баррикад.
Ростовцев, Кондаков эмигрировали. С их отъездом надолго замерли целые разделы и направления отечественной археологии. Произошло и более страшное. Были разорваны и без того не слишком прочные связи поколений. Новая генерация молодых советских археологов примет не только фонды, методы, библиографию, достижения и перспективные задачи, но и груз недоверия; методологическая несостоятельность, пропагандировавшаяся идеологами победившей системы, вместе с политической дискредитацией удостоверялась в сознании нового поколения и организационным развалом старой археологии.
В сфокусированном виде, вероятно, как ни одна другая отрасль, вобравшей в себя все противоречия предреволюционной культуры России. Противоречия, разрешение которых составило целый этап, новый и напряжённый, в жизни учёных, сохранивших верность высшим заветам и бесстрашно шедших навстречу новой эпохе вместе с Родиной и народом.
[45] Тищенко А.В. Его работы. Статьи о нём. Пг., 1916. С. XV-XX.
[46] Пиотровский Б.Б. Археология Закавказья: Курс лекций. Л., 1949. С. 9-10.
[47] Равдоникас В.И. За марксистскую историю. С. 34.
[48] Xудяков М.Г. Дореволюционная русская археология. Л., 1934. С. 86-87.
[49] Трубачёв О.Н. Славяне. Язык и история // Правда. 29.03.87.
[50] Городцов В.А. Бытовая археология. С. 151-152.
[51] Там же. С. 160-161.
[52] Черных E.Н. История древней металлургии Восточной Европы // МИА. 132. М., 1966. С. 85-94.
[53] Худяков М.Г. Дореволюционная русская археология. С. 91-92.
[54] Смирнов А.П. К вопросу об археологической культуре // СА. 1964. 4. С. 4.
[55] Арциховский А.В. Новые методы археологии // Историк-марксист. 1929. 14. С. 138.
[56] Захарук Ю.Н. Выдающееся произведение марксизма и проблемы археологии (к 100-летию работы Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» // От доклассовых обществ к раннеклассовым. М., 1987. С. 14-20.
[57] [в издании сн. 57 помещена между сн. 46 и 47 на с. 459] Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М., 1988. С. 132-133.
[58] [в издании это сн. 57 на с. 460] Борисковский П.И. Введение. Краткая история изучения палеолита. Обзор источников. // Палеолит СССР / Археология СССР. М., 1984. С. 12.
[59] [в издании это сн.58] Пиотровский Б.Б. Археология Закавказья. С. 7-9.
[60] [в издании это сн.59] Ростовцев М.И. Эллинство и иранство на юге России. Пг., 1918.
[61] [в издании это сн.60] Уваров А.С. Христианская символика. I. Символика древнехристианского периода. М., 1908.
[62] [в издании это сн.61] Якобсон А.Л. Раннесредневековый Херсонес // МИА. 63. Л., 1959. С. 5.
[63] [в издании это сн.62] Тураев Б.А. «Богатство царей». Трактат о династическом перевороте в Абиссинии в XIII веке // ЗВОРАО. XIII. Вып. 2-3. СПб., 1901. С. 157; Чернецов С.Б. Эфиопская феодальная монархия в XIII-XIV вв. M., 1982.
[64] [в издании это сн.63] См. об этом: Славяне. Энтогенез и этническая история. Междисциплинарные исследования / Отв. ред. А.С. Герд, Г.С. Лебедев. Л., 1990.
[65] [в издании это сн.64] Спицын А.А. Мои научные работы // Seminarium Kondakovianum, II, Praha, 1929. S. 339-340.
[66] [в издании это сн.65] Жебелёв С.А. Введение в археологию. С. 148-150.
[67] Равдоникас В.И. За марксистскую историю. С. 65-66.
[68] [в издании это вторая подряд сн.67] Луначарская И.А. Из семейных воспоминаний // Русская литература. 1979. №4.
[69] [в издании это сн.68] Гангнус А. На руинах позитивной эстетики // Новый мир. 1988. №9. С. 162-163.
[70] [в издании это сн.69] Литературная газета. 1988.11.16.
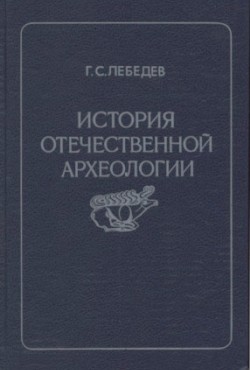 Г.С. Лебедев
Г.С. Лебедев