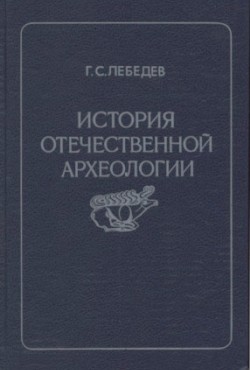 Г.С. Лебедев Г.С. Лебедев
История отечественной археологии. 1700-1917 гг.
// СПб: Изд-во СПбГУ. 1992. 464 с. ISBN 5-288-00500-1
(в выходных данных на с. 2 опечатка: 1971 вместо 1917)
Скачать полностью: .djvu, 19 Мб
Часть II.
Формирование основных разделов российской археологии
(1871-1899).
Глава II.
Основные достижения «уваровского периода» (1846-1884).
1. Зарождение первобытной археологии в России. ^
Первое пореформенное десятилетие в России характеризовалось динамичным развитием экономики, общественных отношений. Наступившая эпоха капиталистического развития обострила социально-политические противоречия, но вместе с тем поставила перед обществом такие жизненно важные, новые задачи, как научно-техническое перевооружение страны, интенсивное развитие всех областей знания. [9] Этот процесс, в значительной мере подготовленный и собственным, внутренним развитием различных отраслей науки и культуры в предшествующий период, теперь получил мощные внешние стимулы, социальные и организационные.
Фундаментальным основанием корпуса археологических знаний в мировой науке XIX в. прочно стала первобытная археология. И в пореформенной России напряжённым усилием учёных уваровского поколения, не сразу, но необратимо совершался мировоззренческий переворот от воспитанного классической гуманистикой, не противоречащего, в общем, традиционалистскому (основанному, в конечном счёте, на библейских авторитетах), восприятия исторического времени — к усвоению начальных представлений о доистории в её необозримой хронологической протяжённости. В первом приближении это представление выражалось усвоением томсеновской «системы трёх веков», где наиболее актуальным было определение конкретного воплощения начального звена системы — каменного века.
Осторожные, сдержанные постановки вопросов о «каменных орудиях» на первых Археологических съездах подготавливали научно-общественное сознание России к более решительным и определённым шагам. Они становились возможными и осуще-
(130/131)
ствлялись по мере реализации общероссийских реформ высшего образования, когда одновременно появились, наконец, первые стабильные основания археологического преподавания (включавшие лишь некоторые разделы археологии в корпус университетских знаний), и тем самым в рамках университетской системы устанавливался механизм взаимодействия археологии с естественными науками, и прежде всего с наиболее близкой из них — антропологией. По мере создания этих организационно-методических предпосылок, в России формировался, хотя и неустойчивый, но определённый круг исследователей — специалистов различного профиля (гуманитарных и естественных наук), своего рода «незримый колледж», способный, как в Англии и других странах Западной Европы первой половины XIX в., решить комплексную по характеру задачу выделения и систематизации памятников каменного века и последующих периодов, составивших конкретное содержание первобытной археологии России.
Университетский устав 1863 г. предусматривал создание кафедр истории и теории искусств. Их программа ограничивалась первоначально классическим искусством, но включала при этом и античную археологию. Не решая проблемы профессиональной подготовки археологов в целом, это нововведение создавало условия для включения в штат университетов археологов, занимающихся классическими древностями. С этого времени можно говорить о начале систематического преподавания археологии в России.
В 1865 г. в Одессе во взаимодействии с Одесским музеем и Обществом истории и древностей был открыт Новороссийский университет. Он стал ведущим научным центром причерноморской археологии.
Характерной особенностью этого периода стало быстрое развитие естественнонаучных знаний и активное их воздействие на смежные разделы гуманитарных наук как в университетском образовании, так и в исследовательской деятельности. В 1864 г. в Москве было образовано Общество любителей естествознания (в дальнейшем антропологии и этнографии — ОЛЕАЭ). Организатором его стал основоположник русской антропологии Анатолий Петрович Богданов (1834-1896) — профессор Московского университета и создатель первой научной школы антропологии в России. [10] А.П. Богданов получил первоклассную подготовку в области геологии и зоологии, работал в основных зарубежных центрах. В своих научных воззрениях он был последовательным дарвинистом. Научно-организационная деятельность А.П. Богданова сближала его с А.С. Уваровым (в эти годы создававшим Московское археологическое общество).
В 1865 г. А.П. Богданов провел широкие исследования курганов Подмосковья, результаты которых в археологическом и
(131/132)
антропологическом плане он обобщил в книге «Материалы для антропологии курганного периода в Московской губернии» (1867). Этот труд — крупнейшая из научных работ А.П. Богданова и первая антропологическая монография в России.
Археологические и антропологические материалы, полученные при раскопках подмосковных курганов, были необходимы для задуманной Богдановым Антропологическо-этнографической выставки в Москве. В процессе подготовки были собраны, однако, преимущественно этнографические материалы. Выставка, открывшаяся 23 апреля 1867 г., называлась Этнографической и состояла из трёх отделов: общего этнографического, антропологического и археологического. Одновременно в Москве проходил Славянский съезд 1867 г., где выступали ведущие слависты всех европейских стран. В работе съезда и выставки активное участие принимали С.М. Соловьёв, Ф.И. Буслаев, М.П. Погодин, В.В. Стасов и др. Материалы выставки затем были переданы Московскому университету (среди них — коллекции из археологических раскопок древнерусских курганов, проведённых Д.Я. Самоквасовым, Н.Г. Богословским, А.С. Гацисским). [11]
ОЛЕАЭ под руководством А.П. Богданова стало, таким образом, инициатором ещё одной новой научно-организационной формы деятельности в России — публичных научных выставок; как и уваровские археологические съезды, выставки (в том или ином масштабе обязательный компонент АС) были исключительно удачной, ёмкой и эффективной формой междисциплинарного взаимодействия. Они не только знакомили с последними достижениями науки широкую публику, но и для исследователей-профессионалов стали конкретным, предметным средством организации развивающейся научной эпистемы, а решение, казалось бы, вполне прикладных (экспозиционных) задач требовало более или менее последовательного применения в работе с материалом определённой парадигмы (ведь именно при экспозиционной работе в Западной Европе скандинавские археологи реализовали, а затем и сформулировали основы типологического метода).
Московские выставки, в дополнение деятельности столичных научных обществ, обеспечивали взаимодействие общественного сознания с последними достижениями гуманитарных, естественнонаучных и технических знаний. В 1872 г. в Москве состоялась Политехническая выставка, также организованная при активном участии А.П. Богданова. Она явилась основой для создания Политехнического музея, который с той поры стал одним из ведущих научно-просветительных учреждений Москвы. Севастопольский отдел Политехнической выставки экспонировал коллекцию древностей из раскопок Херсонеса, которые затем были переданы Московскому археологическому обществу (затем ставшие основой первого фонда будущего Российского
(132/133)
исторического музея). 3 января 1873 г. председателем этого музея был утверждён генерал-адъютант А.А. Зеленой (председатель Севастопольского отдела выставки), а его заместителями (товарищами) — А.С. Уваров и полковник Н.И. Чепелевский. Таким образом, выставка 1872 г. дала начало двум московским музеям — Политехническому и Историческому (ныне — ГИМ). [12]
На протяжении 70-х годов под руководством А.П. Богданова велась интенсивная подготовка собственно Антропологической выставки. В это время началась деятельность самого талантливого из учеников Богданова, Д.Н. Анучина; в 1878 г. он создал экспозицию русской секции антропологического отдела Всемирной выставки в Париже; в Москву Анучин доставил интересную коллекцию материалов из раскопок французских палеолитических памятников. Широкие исследовательские работы в области археологии и связанных с нею наук развернулись и в России. Хранитель Политехнического музея А.И. Кельсиев провёл антропологические, этнографические и археологические изыскания на Севере. Раскопки курганов, сбор археологических и этнографических сведений осуществляли сотрудники губернских статистических комитетов М.А. Саблин (Москва), В.А. Ушаков (Ярославль), Н.Г. Богословский (Новгород). Секретарь нижегородского статистического комитета А.С. Гацисский сообщал ОЛЕАЭ о результатах раскопок курганов, проведённых крестьянином П.Д. Дружкиным. Коллекции черепов и вещей из скифских, киевских, новгородских, верхневолжских, белорусских курганов, раскопанных Д.Я. Самоквасовым, И.С. Леваковским, Н.А. Поповым и др., экспонировались и обсуждались на выставке.
Антропологическая выставка состоялась в помещении московского экзерцисгауза (Манежа) в 1879 г. Она включала отделы: геолого-палеонтологический, краниологический, фотографический, отдел бюстов, масок и манекенов, медико-антропологический, а также этнографический и доисторический. К выставке были приурочены две научные сессии ОЛЕАЭ, весенняя и летняя, причём последняя проводилась как Международный конгресс по доисторической археологии и антропологии. На сессии с докладами выступили Г. Мортилье, вице-директор Лионского музея Б.Ж. Шантр, ряд антропологов. Москва впервые получила признание как один из научных центров доисторической археологии.
Между тем эту археологию необходимо было создавать. Наряду с организационными, эта задача оставалась главной для всего «уваровского периода» развития российской археологии, особенно для позднего его этапа (1871-1884).
Новая проблематика археологии, со времен К.М. Бэра пропагандировавшаяся естественниками, встречала далеко не единодушное сочувствие у ведущих гуманитаров. В 1873 г.
(133/134)
Ф.И. Буслаев раздражённо откликнулся на дарвинистские построения в области первобытной истории. Публикуя в «Русском вестнике» статью с характерным названием «Догадки и мечтания о первобытном человечестве», он писал: «Какой-то зверь из передних лап выработал себе руки, стал точить себе камни и случайно открыл секрет, как добывать огонь трением и сверлением, после того стал мастером и из хромоногого калеки очутился шаманом и жрецом... Читатель видит сам, до какой степени вся эта пустопорожняя игра в первобытного человека далека от точного метода положительных наук». Пройдёт двадцать лет напряжённой работы археологов и многие из положений о первобытности, подкрепленные всем комплексом естественнонаучных данных, станет труднее оспаривать, но историки, например, в лице В.М. Флоринского («Первобытные славяне», 1893), будут сетовать, что археология «теряет связь с историей и с жизнью... внедрилась в чуждые ей области антропологии, геологии и палеонтологии» и стремится представить исторический процесс древности «без прямого отношения к ныне живущим племенам». [13] Этнологический подход рассматривался здесь не как развитие эволюционного, а исключительно как альтернатива ему.
Подобные взгляды были весьма влиятельными, однако назвать их господствующими нельзя. Новая методология пробивала себе дорогу в различных областях гуманитарных знаний: в 1883 г. вышла книга известного русского экономиста Н.И. Зибера «Очерки первобытной экономической культуры», где последовательно излагались положения Маркса и Энгельса; историк и этнограф M.М. Ковалевский развивал в своих трудах эволюционистские и историко-материалистические взгляды; прогрессивные методологические позиции воплощены в многогранной научной деятельности Д.Н. Анучина.
Только с позиций новой, эволюционистской методологии можно было ставить и решать основные конкретно-исторические проблемы первобытной археологии России. В общем виде они были сформулированы в статьях и выступлениях К.М. Бэра. В 1869 г., во время I Археологического съезда в Москве, с русскими материалами ознакомился Й.Я. Ворсо. В 1874 г. в «Вестнике древнего русского искусства» он опубликовал статью «Расселения и древнейшие культурные сношения России и Скандинавского Севера». Опираясь на известное сходство природных условий, Ворсо предполагал одновременное, т.е. сравнительно позднее, заселение территории Скандинавии и Русской равнины, из чего следовало заключение о том, что в России палеолитических памятников быть не могло.
Однако ко времени публикации этой статьи они уже были открыты. Целенаправленный поиск каменного века в России начался ещё в середине 1860-х годов — первоначально на окраинах страны, где и были получены первые результаты.
(134/135)
В 1864 г. петербургский географ Н.Ф. Бутенёв в «Записках Русского географического общества» опубликовал статью «Некоторые соображения о первобытных жителях Северной России, по найденным остаткам их быта», основанную на материалах коллекции, собранной автором в Олонецкой губернии. Находки с карельских стоянок были доставлены Бутенёвым в Этнографический музей Петербургской Академии наук. Это была первая отечественная коллекция каменных орудий, найденных на территории России; подобные к тому времени имелись только в Виленском и Гельсингфорском музеях. [14]
Памятниками каменного века в Карелии, кроме Н.Ф. Бутенева, интересовался ориенталист П.И. Лерх (в 1860-е годы появились его публикации в «Известиях РАО» и в «Олонецких губернских ведомостях»).
В 1870-е годы петербургские учёные начинают проводить более систематические работы на Севере. Сотрудник основанного Бэром Зоологического музея И.С. Поляков в 1871 г. предпринял комплексное, этнографо-антрополого-археологическое обследование юго-востока Олонецкой губернии. Им был зафиксирован ряд местонахождений (на р. Оште, Кен-озере, Свином озере, Кумбас-озере) и сделаны ценные наблюдения: о преимущественном использовании сланца (который обрабатывали «на месте отбивкою и шлифовкою, облегчая себе этот труд пилкою камней более мягких пород»), о большом значении в условиях неолита Карелии рыболовства. Культурный и хозяйственный облик древнего населения Карелии был им обрисован вполне достоверно.
Позднее работы на Севере продолжили московские археологи А.И. Кельсиев и Н.К. Зенгер. Они обследовали Зимний берег Белого моря, между Двиной и мысом Вороновым. На Антропологической выставке 1879 г. была представлена собранная здесь коллекция из 160 орудий (в том числе 148 наконечников и 1 кремнёвое изображение тюленя — одно из первых в России произведений искусства каменного века). В некоторых обследованных местонахождениях А.С. Уваров позднее признал неолитические мастерские по производству кремнёвых орудий (подобные же были открыты к началу 1880-х годов на Волге под Казанью, на оз. Нерехотском в Костромской губ. и в Крыму).
Одновременно с исследованием неолитических памятников Русского Севера началось изучение каменного века на западной окраине Российской империи. В 1871 г. польский археолог граф Ян Завиша, основатель журнала «Wladomości Archeologiczne», начал многолетние раскопки Ойцовских пещер под Краковом. Самая знаменитая из них, Мамонтовая, содержала отложения палеолитической эпохи (был открыт древний очаг, найдено около 2 тыс. кремнёвых орудий, нуклеусы — «ядрища», с которых скалывали кремнёвые отщепы, обломки
(135/136)
бивней мамонта, кости пещерного медведя, северного оленя и др.). Мадленские орудия были обнаружены также в Вершовской пещере, в других пещерах исследованы неолитические слои с кремнём и керамикой.
Восток страны включился в сферу изучения каменного века в то же самое время. В 1871 г. при строительстве госпиталя в Иркутске на глубине свыше 2 м были найдены кремнёвые наконечники, кольца, шары и другие изделия из мамонтовых бивней, кости других животных. Место находки исследовали палеонтолог И.Д. Черский и геолог А.Г. Чекановский. Иркутская находка стала первым памятником отечественного палеолита, подвергнутым комплексному научному изучению. В 1875 г. И.Д. Черский обследовал Нижнеудинскую пещеру, в 1878 г. — пещеры на р. Селенге. В этот период началось формирование первобытного раздела сибирской археологии.
Исключительно важным было и то обстоятельство, что памятники каменного века, открывавшиеся на отдаленных окраинах Российской империи, относились при этом к разновременным, крайним в хронологическом диапазоне его эпохам: карельские стоянки — неолит («новокаменный век», по современным датировкам VI-III тыс. до н.э.), сибирские и польские — палеолит («древнекаменный век», от 15-20 и более тыс. лет тому назад). На всей территории страны предстояла не только определить наличие местонахождений памятников каменного века, но и освоить хотя бы первичную его периодизацию.
В южных районах европейской части страны памятники палеолита были открыты в 1873 г., когда у с. Гонцы Полтавской губернии местный землевладелец Г.С. Кирьянов собрал кремнёвые орудия, привлекшие внимание геолога К.М. Феофилактова, проф. Киевского университета. Он провел тщательное систематическое исследование условий находки. Как писал впоследствии А.С. Уваров, «достоверность находки в дилювиальном слое подтверждается личным наблюдением сведущего геолога».
Позднее раскопки стоянки у с. Гонцы провёл Ф.И. Каминский, доложивший о них на III АС в Киеве. Его работы, как и исследования Феофилактова, отличались тщательностью стратиграфических наблюдений, пристальным вниманием к фауне. Палеолитические местонахождения были открыты ещё в шести пунктах Полтавской губернии.
Поиском памятников каменного века занялся и основоположник украинской археологии Владимир Бонифатьевич Антонович (1830-1908). Естественник (врач) по образованию, он затем закончил историко-филологический факультет и с 1870 г. преподавал всеобщую историю в Киевском университете. При этом Антонович деятельно и продуктивно занимался археологией и историей Киева и Украины в целом. Раскопки
(136/137)
курганов, изучение кладов, составление археологических карт, сбор источников по истории Киева XIV-XVII вв. — эти направления его деятельности сочетались с большой организационной работой. [15] В 1876 г. Антонович начал поиск палеолитических памятников в окрестностях Киева, исследовал Кирилловские пещеры. Появились первые данные о неолитических «кухонных кучах» днепровского побережья, содержавших раковины речных моллюсков, кости рыб, керамику и каменные орудия. Позднее (в 1893 г.) была обнаружена знаменитая Кирилловская палеолитическая стоянка, которую под руководством В.Б. Антоновича исследовал В.В. Хвойка.
Характерной особенностью работ по изучению каменного века на окраинах страны — в Сибири и Польше, на Русском Севере и на Украине — было обязательное объединение археологов и естественников — геологов, зоологов. Приступая к поиску палеолитических памятников в центре и в европейской части России, А.С. Уваров в полной мере учитывал это обстоятельство.
В 1877 г. в уваровской усадьбе в с. Карачарово под Муромом весенним половодьем был обнажён слой с палеолитическими кремнями и костями животных. Проведя первичное обследование, А.С. Уваров пригласил в Карачарово В.Б. Антоновича, И.С. Полякова и В.В. Докучаева проверить находку и «присутствовать при дальнейшем исследовании той же местности» [16] (подобные научные коллективы, объединявшие археологов, геологов, зоологов, создавали в 1830-1840-х годах английские учёные для исследования палеолитических пещер Британии).
Так была изучена Карачаровская палеолитическая стоянка. Её геологическую характеристику дал выдающийся русский естествоиспытатель Василий Васильевич Докучаев (1846-1903), основоположник генетического почвоведения и учения о географических зонах. После первых работ с Уваровым Докучаев занялся активным поиском и исследованием памятников каменного века в бассейне Оки, открыл ряд неолитических стоянок.
Карачаровская стоянка позволила А.С. Уварову отвергнуть выдвинутое Ворсо «ошибочное положение о необитаемости Европейской России в палеолитическую эпоху». Начало заселения России было отнесено к «периоду мамонта и мамонтовой фауны», как определил эту эпоху, в соответствии с периодизацией Э. Ларте, автор первой отечественной монографии о «каменном периоде России».
Работы в Карачарове продолжались с 1877 по 1879 г. По завершении их И.С. Поляков приступил к исследованию памятника, занимающего центральное положение в палеолите Русской равнины, — местонахождения в Костёнках (в советское время стоянка Костёнки I была названа именем Полякова).
(137/138)
Известные ещё с конца XVII в., Костёнки в 1760-х годах заинтересовали петербургского академика С.Г. Гмелина, который провел здесь раскопки с палеонтологическими целями: он правильно определил «останки боевых слонов» как кости матонтов [мамонтов], однако никаких следов человеческой деятельности не обнаружил. Палеолитический характер костёнковских местонахождений в 1879 г. установил И.С. Поляков. В 1881 г. по поручению Исторического музея раскопки в Костёнках продолжил А.И. Кельсиев. Его материалы были опубликованы в 1883 г. в «Древностях» МАО, в статье «Палеолитические кухонные остатки в с. Костёнках».
Развитие работ по палеолиту привело в России, как и в Западной Европе, к открытию нового хронологического горизонта памятников каменного века. В 1879 г. молодой исследователь К.С. Мережковский приступил к поиску палеолитических местонахождений в Крыму. Он обследовал ряд пещер, навесов и стоянок, собрал внушительную коллекцию каменных орудий. Наряду с палеолитическими памятниками (Сюрень I, II, Волчий грот) Мережковский обнаружил открытые стоянки, на которых были найдены «особенного рода маленькие орудия треугольной или трапециедальной формы... Этот тип нигде до сих пор не был найден в таком изобилии». Первым в русской литературе Мережковский описал микролиты мезолитической эпохи (их открытие во Франции приходится на те же 1870-е годы). Сравнив крымские микролиты с найденными в Польше и в Дании, Уваров совершенно правильно отнёс их к «переходной эпохе» отделяющей палеолит от неолита. Русская археология конца 1870 — начала 1880-х годов по актуальности и значимости своих открытий и выводов сравнялась с западноевропейской.
Памятники неолита в европейской части России были открыты в эти же годы; впрочем, их сравнительная близость во времени, а потому — многочисленность и доступность местонахождений обусловила проявление интереса к неолитическим находкам значительно раньше, вероятно, по мере распространения естественнонаучных знаний. [17] Во всяком случае, появились достаточно далёкие от науки люди, интересовавшиеся изделиями «новокаменного века». Так, некий муромский купец собрал целую коллекцию каменных орудий, которую в 1877 г. приобрёл судебный следователь П.П. Кудрявцев. В свою очередь он начал поиск новых местонахождений на берегах Оки и открыл ряд стоянок (собранная Кудрявцевым коллекция экспонировалась на Антропологической выставке 1879 г.). В 1877 г. обследование берегов Оки провёл князь Л.С. Голицын. Его подтолкнули к этому находки, сделанные при строительных работах в его усадьбе. Голицын обратил внимание на особую топографию дюнных стоянок и выступил с докладом о них на заседании Владимирского статистического комитета.
(138/139)
Через год изучением геологической конструкции Окского бассейна и топографией археологических памятников занялся В.В. Докучаев. Опираясь на результаты работ Кудрявцева, Голицына, Добрынкина и других краеведов, он провёл систематическое исследование геологических условий, топографии стоянок, фаунистического и археологического материалов. Результаты обследования были доложены в Петербургском обществе естествоиспытателей, а затем опубликованы в трудах В.В. Докучаева «Доисторический человек Окских дюн» и «Археология России».
Одновременно с В.В. Докучаевым к изучению неолита обратился другой крупный петербургский учёный-естественник — один из основоположников отечественной геологической науки, профессор Петербургского университета Александр Александрович Иностранцев (1843-1919). Он занялся исследованием местонахождений на южном берегу Ладожского озера, близ г. Новая Ладога. Еще в 1731 г. здесь при строительстве Ладожского канала находили каменные орудия, зафиксированные С.Г. Гмелиным. В 1866 г. при прокладке нового Ладожского канала вновь были найдены кости животных, а затем и орудия. А.А. Иностранцев организовал планомерное комплексное исследование сложных многослойных памятников, содержавших слои каменного — раннего железного века, серию захоронений, изделия из дерева (в их числе долблёную лодку). В изучении и обработке материала приняли участие антропологи, зоологи, химики — А.П. Богданов, Д.Н. Анучин, А.А. Тихомиров, Акинкин, Глинка, И.Ф. Шмальгаузен. К 1879 г. работы были завершены. Опубликованная в 1882 г. монография А.А. Иностранцева «Доисторический человек побережья Ладожского озера» и более ста лет спустя является прекрасным образцом научного труда.
Естественнонаучный аспект исследований этих лет не ограничивался решением прикладных задач: сопричастные к ним гуманитары стремились поставить перед антропологами, зоологами, геологами вопросы, раскрывающие определённые стороны собственно исторического процесса. Так, обобщая результаты краниологических определений черепов, произведённых А.П. Богдановым по материалам ладожских стоянок А.А. Иностранцева (там были найдены «долихоцефальные» черепа, отличающиеся от известных к тому времени «брахицефальных», характерных для памятников к востоку и югу от Москвы), А.С. Уваров писал: «Эти люди неолитической эпохи не были ни монгольского, ни финского, ни славянского племени. Далее идти к точному определению их народности я считаю невозможным до тех пор, пока не будет доказано вполне научным образом, не только к какому времени относятся различные погребальные обряды, встречающиеся в наших курганах, но, в особенности, сколько протекло столетий между неолитиче-
(139/140)
скою эпохою и первыми воздвигнутыми курганами» (курсив наш. — Г.Л.). Выделенные курсивом слова были адресованы исследователям, во-первых, славянской археологии, во-вторых, бронзового (медного) и раннего железного веков, памятники которых ещё предстояло выявить, в отличие от славяно-русских (давших, в частности, Богданову массовый краниологический материал для сравнения). [18]
Первые шаги в поиске этих групп древностей уже были сделаны. К 1880 г. в русскую науку вошли два памятника, ставшие эпонимными для культур, сменяющих неолитические в лесной зоне: Волосово и Фатьяново.
Волосовская стоянка напротив г. Мурома, на берегу р. Оки была открыта В.В. Докучаевым в 1878 г.; затем она была исследована А.С. Уваровым. В изучении волосовских материалов приняли участие также И.С. Поляков, А.П. Богданов, А.А. Тихомиров (фаунистические определения и антропологический анализ костяков из открытых Уваровым погребений).
Современные исследователи установили энеолитический возраст волосовской культуры: середина III — начало II тыс. до н.э.; к неолиту относится непосредственно предшествующая ей «протоволосовская культура». [19] Первооткрыватели Волосова, считая его неолитическим памятником, обратили внимание на сравнительно поздний характер культуры, в которой «гончарное искусство, пилка и шлифовка каменных орудий и обработка костяных предметов улучшились до... замечательной степени...». Были сделаны и другие наблюдения общего характера: сравнивая керамику окских и северных стоянок, Уваров пришёл к выводу, что «узор из ямочек принадлежит к отличительным признакам гончарных изделий неолитической эпохи». В рамках будущего «ямочно-гребенчатого неолита» намечались первые общности, выделялись памятники, где «даже форма наконечников вполне одинакова, чем подтверждается ещё яснее как единство племени, так и единство эпохи в изготовлении этих орудий, а затем и всех остальных предметов» [20] (курсив наш. — Г.Л.). В этом частном замечании этнологическая парадигма (культура = этнос) совмещена с эволюционистской (форма орудий = эпоха), и такое совмещение, с точки зрения последующего развития теоретических взглядов археологов, было весьма перспективным.
Фатьяновский могильник стал известен в 1873 г., когда знаменитый капиталист и меценат С.И. Мамонтов подарил Московскому археологическому обществу
несколько черепов, глиняных сосудов и каменных орудий, собранных инженером Андионом при работах в гравийном карьере близ ст. Уткино Ярославско-Вологодской железной дороги. МАО первоначально поручило провести исследования места находок на Фатьяновском холме Андиону, но, не удовлетворённое его работой, раскопки у д. Фатьяново Общество провело силами А.С. Уварова,
(140/141)
В.Б. Антоновича и Е.П. Дьяконенко в 1875 г. (позднее здесь работали А.А. Ивановский и И.С. Поляков). Фатьяновские черепа, диоритовые топоры, шарообразные сосуды экспонировались на Антропологической выставке 1879 г. [21]
Энеолитический характер памятников был установлен по находкам медных изделий и следов окиси меди (анализ металла осуществил В.И. Виноградов). Был сделан совершенно правильный вывод о существовании Фатьянова «в конце каменного периода и даже при первом начале бронзового века... когда стали заноситься сюда изделия уже новой эпохи, но народы, которые принесли с собою эти новые металлические изделия, не успели ещё как вновь появившиеся выходцы повлиять на изменения обычаев у прежних осёдлых обитателей каменного периода». [22] Долихоцефальные фатьяновские черепа резко отличались от местных, брахицефальных: вывод о пришлом происхождении культуры был обоснован в равной мере археологическим и антропологическим материалом.
К 1880 г. общие контуры первобытной археологии России были намечены: выявлены и изучены первые палеолитические памятники, в том числе вовлечено в научный оборот классическое местонахождение в Костёнках; зафиксированы первые стоянки с микролитическими орудиями (в открытии мезолита Россия встала вровень с археологией самых передовых западноевропейских стран); определён облик неолита двух больших культурно-исторических областей в лесной зоне — Волго-Окского междуречья и Онежского озера — Белого моря; найдены эпонимные памятники энеолитической волосовской культуры и фатьяновской культуры круга среднеевропейских «боевых топоров», связанного с древней индоевропейской этнической группировкой. В течение 15-10 лет российская археология в изучении первобытности преодолела отставание от западноевропейской, исчислявшееся в три десятилетия.
Правда, в дальнейшем развитие первобытной археологии вновь резко замедлилось. Не случайно в 1881 г. А.С. Уваров предпослал своей обобщающей монографии «Археология России. Каменный период» грустный эпиграф из русского фольклора: «Кто в поле жив человек — отзовися».
Резко изменились внешние, общественно-политические условия, в которых приходилось действовать «ученой дружине» 1870-х годов. Залогом успешного решения задач, стоявших перед первобытной археологией, было, как и в Западной Европе, объединение сил археологов и учёных-естественников. Неформальный коллектив исследователей, сложившийся в 1870-е годы, мог обеспечить успех начального этапа работ, что и произошло. Однако для закрепления этого успеха, для планомерного развития первобытной археологии требовалось организационное оформление научного сотрудничества естественников и гуманитаров.
(141/142)
Предпосылки для такого сотрудничества имелись: в Петербурге — Русское географическое общество, Общество естествоиспытателей, в Москве — ОЛЕАЭ. Эти общества были тесно связаны с Петербургским и Московским университетами, организационная структура которых способствовала взаимодействию гуманитарных и естественных наук. Однако собственная организационная структура российской археологии ни в Петербурге, ни даже в Москве не смыкалась с университетской. Научные связи с университетами и Академией наук во многом зависели от личной инициативы руководителей АК, РАО и МАО, от их идейно-политических взглядов, отношений с властями предержащими и в целом — от внешних условий, прежде всего условий развития культуры господствующего класса царской России. Организационная система археологии, сложившаяся в течение «уваровского периода», функционировала под действием сложных, противоречивых, нередко взаимоисключающих факторов.
2. Деятельность AK и РАО.
Классическая, скифская, славянская, восточная археология в Петербурге. ^
Петербургские научные силы, активно участвовавшие в развитии первобытной археологии 1860-1870-х годов, принадлежали главным образом Академии наук и Петербургскому университету. Собственно археологические учреждения столицы, Археологическая комиссия и Русское археологическое общество в целом держались в стороне от этого внезапно возникшего течения, оставаясь в русле сложившихся уже разделов археологии, воплощенных и в организационной структуре Эрмитажа и РАО.
Классическая археология в России к этому времени прошла почти вековой путь развития. Наряду с «Древностями Боспора Киммерийского», которые, по выражению М.И. Ростовцева, стали памятником акад. Л.Э. Стефани, [23] вышли другие обобщающие работы, посвященные древностям Пантикапея (книги Г.И. Спасского, П.П. Сабатье), Херсонеса Таврического (исследование Б.В. Кёне). Известный ориенталист В.В. Григорьев опубликовал историко-археологическое исследование «Цари Боспора Киммерийского» (1851). [24]
Археологическая комиссия стремилась прежде всего обеспечить высокий научный уровень раскопок причерноморских памятников. Руководство было поручено (от имени Археологической комиссии) директорам Керченского музея А.Е. Люценко, затем С. Веребрюсову, Ф.И. Гроссу. Совместно с ними работали члены АК В.Г. Тизенгаузен, Н.П. Кондаков и другие петербургские учёные.
(142/143)
Наиболее ярким событием в классической археологии этих лет стало открытие, осуществлённое одним из крупнейших деятелей русской культуры Владимиром Васильевичем Стасовым (1824-1906). Художественный и музыкальный критик, историк искусства, видный деятель общественного движения, В.В. Стасов внёс заметный вклад и в археологию, и в славянскую этнографию. [25] Член РАО с 1861 г., он возглавил созданное в 1864 г. этнографическое отделение Общества, был редактором «Известий РАО». В 1872 г. В.В. Стасов исследовал ряд погребальных сооружений пантикапейского некрополя. В одной из гробниц были обнаружены прекрасной сохранности росписи со сценой конного боя. Вооружение, одежда, снаряжение воинов подтверждали и дополняли курганные находки, помогали воссоздать живую и яркую картину жизни припонтийских степей. Открытие Стасова вызвало целую волну публикаций, тридцать лет спустя завершившихся монументальным исследованием М.И. Ростовцева «Античная декоративная живопись на юге России». [26]
В целом работы на юге приобретали всё более организованный и целенаправленный характер. Продолжая исследования в Керчи, А.Е. Люценко, Н.П. Кондаков, С. Веребрюсов в 1876-1878 гг. развернули работы по изучению некрополя древнегреческого Нимфея. Несмотря на все потери, понесённые в результате хищнических раскопок начала XIX в., на продолжавшуюся деятельность керченских «счастливчиков» (кладоискателей), в итоге раскопок в Керчи, по мнению М.И. Ростовцева, «некрополь Пантикапея надо считать расследованным так полно и подробно, как, может быть, ни один из некрополей других античных городов, не исключая даже некрополей главнейших центров античной культуры — Афин, Спарты, Александрии, Антиохии, Пергама, Милета, Эфеса и др., даже Рима, где раскопки производились столетиями» [27] (курсив наш. — Г.Л.). Это мнение крупнейшего знатока античности свидетельствует, что не только в области доисторической (первобытной), но и классической (античной) археологии русская наука, начиная с 1870-х годов, выходила на передовые исследовательские рубежи, и полученные ею результаты приобретали выдающееся, мировое культурно-историческое значение. Некрополь Пантикапеи — Боспора стал первоклассным источником, охватывающим эпоху с конца VI в. до н.э. и до VI в. н.э. Наиболее ценные его материалы, которые позднее стали базой для масштабных культурно-исторических обобщений, поступили в Эрмитаж (ныне хранятся в Золотой кладовой ГЭ). Следует отдать должное в создании этого фонда петербургской Археологической комиссии.
Вплоть до 1888 г. новые находки получали квалифицированное и подробное описание в публикациях Л.Э. Стефани, в очередных выпусках ОАК. Позднее руководство археологическими
(143/144)
изысканиями в области античности сосредоточилось в руках Василия Васильевича Латышева (1855-1921), впоследствии академика (с 1901 г.), крупнейшего дореволюционного и советского специалиста по истории, археологии и источниковедению античного Причерноморья. В 1885 г. РАО начало публикацию латышевского свода античных надписей северного побережья Понта Эвксинского. [28]
Однако главным вкладом России в развитие археологии античного мира стало создание на базе классической археологии её самостоятельного скифского (а позднее скифо-сарматского) раздела. Исторически связанные с эллинско-припонтийскими, скифские древности и исследовались в едином контексте с ними, в единой организационной системе и одним кругом исследователей.
Основы скифской археологии были заложены И.Е. Забелиным, который не только ввёл в науку Чертомлык, Большую Близницу и другие раскопанные им памятники, но и объединил в «Древностях Геродотовой Скифии» результаты всех предшествующих раскопок. В 1870-е годы археологи Керченского музея, под эгидой и при участии АК, продолжали исследование скифских курганов. Среди раскопанных в это время памятников наибольший интерес представляли Нимфейские и Семибратние курганы.
В составе нимфейского некрополя, исследованного в 1876-1878 гг. А.Е. Люценко, Н.П. Кондаковым и С. Веребрюсовым, помимо древнегреческих, находились погребения эллинизированной скифской знати. Монументальные насыпи содержали каменные гробницы с деревянными саркофагами, украшенными резьбой и инкрустацией. Погребения, с наборами скифского и греческого вооружения, бронзовой и чернолаковой греческой посудой, сопровождались многочисленными захоронениями коней. Сходный обряд был обнаружен и в Семибратних курганах в низовьях Кубани, исследованных в 1875-1878 гг. В.Г. Тизенгаузеном. В огромных (до 18 м высоты) насыпях находились гробницы из сырцового кирпича с погребениями коней в полной сбруе (иногда — в отдельной могиле). Знатные скифы были похоронены с кожаными панцирями и другим вооружением, наборами пиршественной посуды, великолепными золотыми украшениями; не все могилы одинаково сохранились; в одной из них найден такой же саркофаг, как в Нимфее, в другой — скелет, усыпанный золотыми бляшками, лежал на особом помосте.
Новые находки усиливали интерес к проблеме скифо-эллинских отношений, глубине взаимодействия скифской и эллинской культур, что впервые стало предметом обсуждения уже после раскопок Большой Близницы. Особое внимание уделялось району, где это взаимодействие было наиболее интенсивным — Таманскому полуострову. Начиная с 1868 г. здесь вёл исследова-
(144/145)
ния В.Г. Тизенгаузен; в 1870 г. И.Е. Забелин предпринял поиск остатков крупнейшего греческого поселения — древней Фанагории.
Расширялась и уточнялась не только география скифо-сарматских древностей. В 1864 г. при строительных работах в Новочеркасске был разрушен курган Хохлач. Вещи, поступившие оттуда в АК, вошли в науку под названием Новочеркасского клада. Они составляли роскошное убранство сарматской царицы: диадема, шейная гривна, спиральные браслеты и другие изделия из золота с инкрустацией гранатом и стеклом представляли собой новый этап «звериного стиля» и относились к новой исторической эпохе — первым векам нашей эры, времени господства сарматов Причерноморья.
По мере того как степные курганы создавали всё более насыщенную материальную картину древней жизни Причерноморья, возрастало стремление связать эту картину с историческими источниками. В разработке скифской проблематики, начиная ещё с 1840-х годов, всё более активно участвовали историки: московский проф. Н.И. Надеждин, одесский медиевист Ф.К. Брун. Работа Бруна «Опыт соглашения противуположных мнений о Геродотовой Скифии и смежных с нею землях» (СПб., 1869) в 1873 г. была переведена на французский язык и издана в Петербурге с целью познакомить зарубежных учёных с суждениями автора по поводу дискуссионных вопросов, вызывавших полемику как среди русских, так и западноевропейских исследователей. Одновременно в Петербурге вышел (на немецком языке) очерк К.М. Бэра «Исторические вопросы, разрешаемые с помощью естественных наук», по мнению современного исследователя, «составивший заметный вклад в историю изучения Скифского рассказа Геродота». С 1879 г. публиковалась серия исследований проф. Киевского, а затем Казанского университета Ф.Г. Мищенко, переводчика Геродота, Фукидида, Полибия, Демосфена, охватившего практически все стороны изучения IV книги «Истории» Геродота. Скифология в России к началу 1880-х годов обрела прочную научную основу. [29]
Классическая археология (составной частью которой выступала скифология), опиравшаяся на развёрнутый, устойчивый и освоенный «образованным обществом», вплоть до гимназических классов, корпус базовых знаний «классического комплекса» (включая в качестве стандартной культурной нормы знание латыни и греческого, основ классической филологии, древней литературы, истории), уже в силу этой сравнительной общедоступности своих результатов пользовалась преимущественным общественным вниманием и престижем. Её достижения и открытия, будь то руины эллинских полисов, статуи богов и муз, вазы с росписями на мифологические сюжеты, монеты эллинистических царей или римских императоров, органично и
(145/146)
глубоко входили в нормативный фонд культуры российского общества, одновременно усиливая и утверждая авторитет классического начала, но притом и формируя археологический аспект гуманитарного знания, выражая феномен своего рода материализации исторического времени (выступающего в «подлинных антиках»). Именно в сфере классической археологии определялась в качестве культурной нормы позиция археологического знания в структуре культуры в целом. Определялся и алгоритм археологического исследования, логика и последовательность научных задач, имеющих целью ответы на общественно значимые вопросы, которые общество ставило перед исторической наукой и в целом гуманитарной культурой.
Освоение античной историографии, относящейся к Северному Причерноморью, закономерно вело к расширению археологической проблематики. В научное обращение вовлекался не только Геродот, но и более поздние — эллинистические, римские, византийские источники. Из «скифской проблемы» вырастала проблематика более поздних периодов, «сарматская» и «готская», непосредственно ведущая к эпохе Великого переселения народов (V-VI вв.), предшествующей Киевской Руси. Первыми к разработке этого пласта приступили историки. В 1874 г. Ф.К. Брун опубликовал в «Записках Академии наук» в Петербурге большую статью «Черноморские готы и следы их долгого пребывания в Южной России» — первое фундаментальное исследование отношений между готами, славянами, римлянами, византийцами. Пятнадцать лет спустя эти изыскания будут завершены Ф.А. Брауном: ему удалось установить происхождение прямых потомков крымских готов — «мариупольских греков». Позднее появился классический труд Ф.А. Брауна о гото-славянских отношениях. [30] «Готская тема», а именно тема готов в Крыму, неразрывно связана с византийской. В 1874 г. А.А. Куник исследовал так называемую «Записку готского топарха», в 1878 г. В.Г. Васильевский — «Житие Иоанна Готского». Диапазон причерноморской историко-археологической проблематики постепенно расширялся, приближаясь к русско-византийскому средневековью. [31]
К этой проблематике естественно примыкала петербургская ориенталистика, где наиболее заметным и многогранным исследователем был Василий Васильевич Григорьев (1816-1881), профессор кафедры истории Востока, а в 1873-1878 гг. — декан факультета восточных языков Петербургского университета. На протяжении десятилетий он по существу находился в центре разносторонней исследовательской работы в области арабистики, нумизматики, систематизации письменных источников, разработки исторических проблем связей России с Востоком. Вместе с такими авторитетными к тому времени учёными, как директор Азиатского музея Академии наук Б.А. Дорн (1805-1881), проф. университета X.Д. Хвольсон (1819-1911),
(146/147)
в эти исследования активно включаются ученики В.В. Григорьева — А.Я. Гаркави, В.Р. Розен, Н.И. Веселовский.
Следует особо отметить заслугу В.В. Григорьева в постановке хазарской проблемы, которой были посвящены три его небольшие работы 1834-1835 гг. По словам крупнейшего советского исследователя истории и культуры хазар М.И. Артамонова, они «в течение долгого времени оставались лучшими и наиболее полными сводками сведений о хазарах и служили ряду поколений русских историков основными пособиями для ознакомления с хазарами и их историей». [32] Материалы арабских источников о хазарах, вслед за В.В. Григорьевым, опубликовал Б.А. Дорн. Несколько позднее к хазарской проблематике обратился Ф.К. Брун, посвятивший ей своё выступление на I АС (1869 г.). [33]
В 1869 г. Д.А. Хвольсон издал в Петербурге свой труд «Известия о хазарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славянах и русских Ибн-Даста» — своего рода энциклопедическую сводку данных о народах Восточной Европы, собранных в 7-й (единственной сохранившейся) книге сочинения арабского автора начала X в. Абу-Али Ахмеда ибн-Омар ибн Русте «Книга драгоценных ожерелий». Хазарская проблематика включалась в более обширный контекст. К разработке её приступало новое поколение востоковедов. В 1870 г. А.Я. Гаркави (выступивший на I АС с докладом о границах Хазарии) издал свою сводную работу «Сказания мусульманских писателей о славянах и русских», которая на последующие сто лет стала основным источником для археологов и историков-славистов, когда-либо обращавшихся к сведениям восточных источников.
Обобщая задачи формирующегося в недрах востоковедения научного направления, связанного с изучением кочевых народов, в 1875 г. В.В. Григорьев посвятил этой теме специальную работу «Об отношениях между кочевыми и осёдлыми государствами», по оценке акад. В.В. Бартольда, «одну из лучших своих статей». [34] Россия, писал В.В. Григорьев, не только изначально и на всех этапах своей истории была связана с кочевническими обществами и государствами: скифским и сарматским, хазарским и половецким, монгольским и золотоордынским. Начиная с середины XVI столетия и вплоть до 1864-1871 гг. в состав Русского государства постепенно вошли созданные на базе тюркско-монгольских кочевнических империй государства пояса евроазийских степей, а в XIX в. — и Средней Азии. Изучение истории, культуры, языка, общественных отношений, взаимосвязей народов и стран Европы и Азии, роли в этой системе кочевнических обществ были научной задачей, в которой России принадлежал не только приоритет постановки, но и для решения которой российская наука, включая (в перспективе) археологию, располагала уникальными исследовательскими возможностями.
(147/148)
Реализация этих возможностей требовала развития организационной деятельности ориенталистов. В 1870-е годы началась работа нового поколения петербургских востоковедов, среди которых особо должен быть назван Виктор Романович Розен (1849-1908), на протяжении более чем тридцати лет фактически возглавлявший эту отрасль научного знания в Петербурге. Среди его учеников — блистательная триада академиков — кавказовед Н.Я. Марр, индианист С.Ф. Ольденбург, исламист В.В. Бартольд, — учёные, которые вплоть до 1930-х годов направляли развитие целого комплекса гуманитарных дисциплин (включая археологию) и внесли фундаментальный вклад в создание советской науки. В.Р. Розен, в свою очередь, был учеником крупнейших арабистов Петербурга и германских университетов, где он провёл год. В 1876 г. в качестве помощника генерального секретаря он принимал деятельное участие в подготовке и проведении III Международного съезда ориенталистов в Петербурге. Работая преподавателем факультета восточных языков в Университете, в 1885 г. В.Р. Розен возглавил Восточное отделение Русского археологического общества. По его инициативе в 1886 г. началось издание «Записок Восточного отделения РАО», которые стали основным и наиболее авторитетным периодическим изданием в области востоковедения и восточной археологии.
Новые аспекты собственно археологической проблематики появились и в университетском преподавании. Это было связано с исследовательскими интересами первого в Петербургском университете профессора по кафедре теории и истории искусств А.В. Прахова. В 1880 г. на базе РАО он издал «Зодчество древнего Египта» — первое в России исследование, обобщившее результаты египтологической археологии. Книга, правда, была критически встречена В.В. Стасовым.
Славянская археология, как и классическая, и восточная, в эти годы, несомненно, в определённой степени испытывала воздействие бурного прогресса университетской науки. Согласно уставу 1863 г., на историко-филологическом факультете Петербургского университета, а также в Московском, Казанском и Харьковском университетах были созданы кафедры славянской филологии, объединившие изучение славянских языков, литератур, древностей. В Петербурге объединились наиболее крупные силы славистов. Вопросы славянской истории и культуры в первые пореформенные годы обрели особое значение, далеко выходящее за пределы академической научной проблематики. Мысли об особом пути исторического развития России, двигаясь по которому она поведёт за собой всё человечество, развивал в эти годы вернувшийся из ссылки Ф.М. Достоевский. О славянах, способных, «как народы германские, романские, англосаксонские, быть орудием для развития социальной будущности человечества», стремящегося к высоким общественным иде-
(148/149)
алам, писал в программных документах революционного народничества П.Л. Лавров. В работах петербургских учёных Н.Я. Данилевского «Россия и Европа» (1869, 1871) и В.И. Ламанского «Об историческом изучении греко-славянского мира в Европе» (1871), основывавшихся на «теории культурно-исторических типов», славянские народы рассматривались как олицетворяющие новый, высший тип мировой культуры, что должно в дальнейшем привести их к объединению и политическому доминированию в Европе. [35]
В исторической перспективе панславизм легко переходил на реакционные охранительские позиции; однако в годы, предшествовавшие новому революционному подъёму в России, повышенное внимание к славянскому языку и литературе, культуре и истории было явлением прогрессивным, и не только в общественном, идейно-политическом, но и прежде всего в научном плане. Блистательное развитие славянской филологии в эти годы возглавил создатель современного славянского языкознания, основоположник ряда научных школ (казанской, петербургской, варшавской) И.А. Бодуэн де Куртене (1845-1929). В «петербургский период» своей деятельности (1868-1875 гг.) он выдвинул идеи, определяющие для современного языкознания: о необходимости изучать живые современные языки и говоры; о преимущественном значении морфологических изменений по сравнению с фонетическими; он поставил теоретические проблемы языкового знака, языковой системы и структуры, языковых единиц и уровней и др. В его работах лингвистика в теоретико-методическом отношении резко продвинулась вперёд по сравнению со всеми другими гуманитарными науками, достигнув рубежей, сохраняющих значение на протяжении всего XX столетия. Им была разработана первая научная классификация славянских языков и заложены основы исторического исследования языкового (а в проекции на историко-археологические данные и этнического) процесса, позднее развитые А.А. Шахматовым. [36]
Первые опыты систематического использования для реконструкции древнейших этапов истории славянской культуры данных языка относятся к концу 1870-х годов. Они были суммированы в докторской диссертации А.С. Будиловича «Первобытные славяне в их языке, быте и понятиям по данным лексикальным» (1878-1882). Систематизировав лексику по тематическим рубрикам (метеорологические явления, анатомия, животный мир, растения, народный быт и пр.), Будилович выделил дославянский, праславянский, древнеславянский и новейший языковые пласты. Лингвисты (в частности, Бодуэн де Куртене) встретили его работу критически. [37] Однако это была первая целенаправленная попытка исследовать праславянскую материальную культуру и древнейшую территорию на основе языковых данных. И тем самым определялись конкретные и
(149/150)
новые исследовательские задачи для работ в области славянской археологии.
Большое значение для конкретизации этих задач имели работы Н.П. Барсова (как и Будилович, он окончил Петербургский университет и затем был профессором Варшавского университета). Первое издание его труда «Очерки русской исторической географии» (1873) вводило в обращение огромный фактический материал о границах земель и княжеств, о городах, политических событиях в пределах Руси и соседних славянских земель IX-XIV вв. (эта работа сохраняет свою ценность до сих пор). [38] В историко-географическом плане систематизация письменных источников достигла в своём роде предела и дальнейшая детализация исторических построений была возможной теперь лишь с привлечением археологических данных.
Пространство, в котором на протяжении тысячелетий осуществлялась, вплоть до эпохи Киевской Руси, татаро-монгольского разгрома русских княжеств и возрождения древнерусских городов по мере становления Московского государства, географическая основа и арена развития славянской культуры, как и объём этой культуры (по данным наиболее жизнеспособной и действенной её части — языка, словаря, фольклора), в 1870-е годы выступали в научной литературе как вполне оформленная целостность. Общие проблемы славянской и русской культуры на этой, а также широкой литературной базе мирового славяноведения разрабатывались в трудах крупнейшего историка и теоретика мирового фольклора и литературы, профессора Петербургского университета, акад. А.Н. Веселовского (1838-1906).
Историческая наука, основанная на анализе письменных источников славяно-русской истории, в Петербурге этих лет представлена трудами весьма авторитетного для современников специалиста, каким был акад. А.А. Куник (1814-1899). Автор двухтомного, изданного на немецком языке исследования «Призвание шведских родсов финнами и славянами» (1844-1845), Куник в отечественной и мировой исторической науке выступал основоположником «норманнской теории» происхождения Древнерусского государства» точнее же, после начального этапа освоения проблематики «варяжского вопроса» исследователями и комментаторами летописного древнерусского текста, петербургскими академиками XVIII в., после острых, хотя не всегда свободных от политической тенденциозности дискуссий времён Байера, Миллера, Ломоносова, Шлецера, именно А.А. Куник дал полную, в основе исчерпывающую сводку и анализ различных, притом независимых друг от друга по происхождению, относящихся к теме письменных источников, их интерпретацию и обобщение. С этого времени «варяжский вопрос» в исторической науке обладает, во-первых, фундаментальным корпусом письменных данных (куда, наряду
(150/151)
с летописью, западноевропейскими, византийскими и восточными источниками, входят также данные топонимики, антропонимия языка); во-вторых, — сводом классических положений, в число которых входит тезис о связи названия «Русь» (через финское «руотси») с древнешведским «родс» (восходящим к гипотетическому общедревнесеверному термину, обозначающему «гребцов» и засвидетельствованному в шведских надписях XI в. в форме «рузсь» в значении «команда гребного военного корабля», хотя эта достоверная форма, ruѣ выявлена в источниках спустя 150 лет после публикации трудов А.А. Куника). Этот термин в первичном значении Куник связывал с одной из прибрежных областей Средней Швеции (Родслаген), откуда, по его гипотезе, на восточное побережье Балтики, в Финляндию, а затем в Россию проникали шведские викинги (отсюда финский этноним «руотси»-«шведы»), а в середине IX в. — варяжский князь Рюрик с братьями, которые, по летописи, «пояша по собе всю русь», т.е. сопровождались более или менее обширным воинским контингентом, обозначавшимся этим именем. Отсюда (от гипотетического «племени» или иной группы скандинавского населения) — «русь» в значении княжеской дружины, затем «Русская земля», подчинённая князю, наконец, после Крещения Руси, собственно этноним («люди Руския») — линия развития, со времен А.А. Куника и до исхода 1980-х годов прослеживавшаяся несколькими поколениями учёных в многоэтапной и противоречивой по обстоятельствам своего развития и реализации, но в конечном итоге научной дискуссии по «варяжскому вопросу», стремившаяся раскрыть исторические судьбы древнерусской, восточной ветви славянства, его путь «из варяг в греки», место Древней Руси в становлении Европы, роль и значение Древнерусского государства в системе связей со Скандинавией и Византией.
С началом деятельности представителя нового поколения петербургских историков, в дальнейшем академика, авторитетнейшего из университетских профессоров В.Г. Васильевского (1838-1899), основателя школы научного византиноведения в Петербурге, историческое византиноведение становилось также одной из сфер разработки этой «славяно-варяго-византийской» проблематики. В 1870-х годах вышли труды Васильевского «Византия и печенеги (1048-1094)» (1872) и «Варяго-русская и варяго-английская дружина в Константинополе XI и XII вв.» (1874-1875) и, таким образом, резко расширился не только состав корпуса письменных источников, но и спектр проблематики, охватывающей исследование всей системы связей Византийской империи в эпоху становления и подъёма Киевской Руси, равно как и соседних с ней государств и народов.
Весь комплекс славяноведческих дисциплин, включавших филологию, фольклористику, историческую географию, письменную историю, исследуемых в научных учреждениях Петер-
(151/152)
бурга ведущими учёными (прежде всего в Университете и Академии наук), обеспечивал разработку славяно-русской археологией широкого спектра исследовательских задач:
— определение племенных территорий и времени появления на них славян (в случае автохтонного, изначального происхождения славянского населения на той или иной территории следовало бы определить для периода после каменного века этапы развития славянской культуры; если же появлялись основания видеть в славянах пришельцев, то предстояло определить характер отношений с дославянским населением, как, например, долихоцефальных фатьяновцев — с брахицефальными волосовцами);
— уровень развития славянской материальной культуры (сопоставимой с данными языка, систематизируемыми лингвистами);
— погребальные обряды (как область духовной культуры расширяли возможности сопоставлений с данными языка, фольклора, этнографии);
— культурные, экономические, политические связи (археология могла в их изучении учитывать не только данные лингвистики и истории, но и близкий по обстоятельствам находок и методике источниковедения материал нумизматики — многочисленные арабские, западноевропейские и византийские монеты в кладах или погребальных комплексах, так же, как вещественные находки, особенно выразительные «импорты» из Северной Европы, легко сопоставимые с публикациями скандинавских вещей, что позволяло раскрыть направленность и динамику отношений восточных славян с Византией, Скандинавией, Западной Европой, мусульманскими странами).
К решению всего комплекса этих задач славяно-русская археология начала 1870-х годов была ещё не готова — сказывалось отсутствие традиции систематического и целенаправленного изучения славянских древностей. Раскопки Владимирских курганов, проведенные А.С. Уваровым и П.С. Савельевым (если не от лица, то хотя бы на глазах РАО), оставались пока единичным эпизодом. Наиболее квалифицированные силы АК составляли археологи-античники, занятые к тому же интенсивным развитием скифологии. Слависты университета, как и ориенталисты, сосредоточились на успешной разработке языковых и письменных источников. Фонд источников вещественных ещё предстояло создать.
Русское археологическое общество с достаточной степенью ответственности подошло к решению этой неотложной задачи. После II АС по инициативе РАО в Петербурге началось систематическое изучение древнерусских курганов Северо-Запада.
Лев Константинович Ивановский (1845-1892), ассистент Медико-хирургической академии, был привлечён РАО к этим работам в качестве антрополога. Раскопки курганов Северо- Запада первоначально преследовали строго ограниченную
(152/153)
цель — дать краниологический материал для обсуждения одного из вопросов (о взаимосвязях древнего и современного населения), поставленных на II АС. Однако полученные находки настолько увлекли исследователя, что на протяжении одиннадцати полевых сезонов (с 1872 по 1885 г.) он почти без перерывов работал в западных уездах Петербургской губернии (на Ижорском плато).
Всего им было раскопано 5877 курганных насыпей в 127 могильниках. По объёму раскопки Ивановского немногим уступали уваровским. Курганы Ижорского плато дали великолепный материал XI-XV вв., позволявший проследить эволюцию курганного обряда от монументальных насыпей с сожжениями к трупоположениям (в том числе сидячим), а затем — новгородским «жальникам», грунтовым погребениям с валунными оградами. Исключительно разнообразными оказались украшения — ромбощитковые и многобусинные височные кольца, витые, пластинчатые и пр. браслеты, ожерелья, подвески, перстни и т.п. Женский наряд и мужской убор, оружие и орудия труда — всё это позволяло разносторонне и ярко представить и воссоздать облик и культуру словен новгородских. Особую ценность этот материал представлял в контексте славянского взаимодействия с финскими племенами ижорой, карелой, водью.
Л.К. Ивановский исследовал также сопки южного Приильменья, у д. Коровичино и Марфино. [39] Многослойные насыпи с каменными оградами в основании, кладками внутри, мощными кострищами, остатками сожжений и костями жертвенных животных и птиц впервые были раскопаны, описаны в полевом дневнике, воспроизведены на чертежах систематично, подробно и чётко. Сто лет спустя разрезы «сопок Ивановского» остаются эталонными примерами выявленной и зафиксированной структуры погребальных памятников Новгородской земли, предшествующих древнерусским курганам. [40]
Обработать результаты своих раскопок учёный не успел: многолетняя напряженная полевая работа подорвала его силы, и поступившие в АК материалы лишь в 1896 г. были изданы А.А. Спицыным. С тех пор они составляют одну из важнейших частей фонда русских курганных древностей.
Применительно к материалам Ивановского (что было важной, хотя и одиночной в то время новацией) были произведены химические анализы бронзовых вещей, результаты которых в 1883 г. опубликовал горный инженер Д.А. Сабантеев.
Одновременно с работами Ивановского на Ижорском плато в восточной части Петербургской губернии начал исследования курганов директор Артиллерийского музея Николай Ефимович Бранденбург (1839-1903). После разведочных работ 1878-1879 гг. на р. Кумбите в Южном Приладожье он выступил в РАО с изложением развёрнутой программы археологических
(153/154)
исследований в Петербургской, Новгородской, Владимирской, Тверской и Черниговской губерниях. Наряду с курганами, он предполагал исследовать места исторических битв, но эта программа была осуществлена лишь частично. Однако она дала науке материалы широчайшего хронологического диапазона (курганы «с окрашенными костяками») эпохи бронзы; кочевнические новгородские сопки; приладожские древнерусской поры).
Первые работы H.Е. Бранденбург развернул в Приладожье. По масштабам они значительно уступали раскопкам Уварова и Ивановского, но отличались более тщательной методикой. С 1878 по 1884 г. H.Е. Бранденбург исследовал около 150 насыпей. Все они получили детальное и точное описание, включая не только состав вещевого комплекса и положение погребений, но и устройство кургана, соотношение в насыпи захоронений и очагов, положения отдельных вещей и пр. При исключительном своеобразии приладожских курганов (с очагами в основании насыпи, многоярусными погребениями, богатым инвентарём) данные, полученные Бранденбургом, заслуживают самой высокой оценки. Курганная культура южного Приладожья IX-XII вв. стала едва ли не первой, получившей развёрнутую археологическую характеристику; и хотя в число славянских она не входит, по времени открытия она оказалась одной из первый культурных общностей, выявленных исследователями славяно-русской археологии. [41]
Среди приладожских находок было немало вещей скандинавского происхождения — оружие, фибулы, браслеты. Археологические данные приобрели значение одного из источников по «варяжскому вопросу». H.Е. Бранденбург обратился к узловому памятнику летописного пути «из варяг в греки» — Старой Ладоге. [42]
Приступая к работам, H.Е. Бранденбург систематизировал данные письменных источников о древнерусской Ладоге — третьем по значению городе Новгородской земли IX-XII вв. после Новгорода и Пскова (по одной из версий «предания о варягах» — первоначальной столице Рюрика). Бранденбург составил подробный свод известий скандинавских саг, в которых Ладога-Альдейгьюборг, начиная с эпических преданий и вплоть до вполне историчных сведений о норвежских королях — родственниках Ярослава Мудрого, упоминалась неоднократно.
Ладожская каменная крепость XV-XVI вв. ко временам Бранденбурга лежала в руинах. Начиная архитектурно-археологические раскопки в 1884 г., он считал эти руины «крепостью Рюрика». Исследование показало, что это не так. Но именно H.Е. Бранденбургу мы обязаны первыми, подробными и тщательными обмерами и фиксацией ладожских каменных стен и башен (освобождённых от земли) и развалов камней.
(154/155)
Он исследовал также остатки древнерусских храмов Ладоги. В ближайших её окрестностях и близ волховских порогов. Бранденбург раскопал несколько сопок, в том числе крупнейшую из известных памятников этого рода насыпь у д. Михаила Архангела, с мощным каменным цоколем в основании и другими сложными архитектурными элементами. [43] Ладожские сопки, раскопанные H.Е. Бранденбургом, дали вещевой материал, который до 1970 г. практически был единственным для датировки всей этой категории погребальных памятников.
Наряду с работами H.Е. Бранденбурга в Ладоге, РАО организовало и другие архитектурно-археологические исследования. На протяжении 1866-1881 гг. Л.А. Даль занимался изучением укреплений Коломны; Общество немало сделало для спасения коломенского кремля. В 1868 г. П.И. Савваитов и И.И. Горностаев обследовали стены Пскова, требовавшие срочной реставрации. По инициативе С.Г. Строганова, заново, с учетом строгих археологических требований, была проведена фиксация Софийского собора в Киеве. В результате этих работ (под руководством Ф.Г. Солнцева и И.И. Срезневского) были расчищены фрески с изображениями семьи Ярослава Мудрого.
Издательская деятельность РАО, наряду с периодикой, отмечена в этот период публикацией четырёх выпусков «Софии Киевской» (1871-1887), планов, разрезов, мозаик, живописи, всех предметов древности и старины Софийского собора. Были изданы также труды А.Н. Оленина, «Труды II АС», начата подготовительная работа к изданию «Старой Ладоги» H.Е. Бранденбурга (осуществлено в 1898 г.).
В основном в 1861-1881 гг. работа РАО носила организационный характер: обсуждались конкретные исследовательские программы и полученные результаты, готовились публикации, участие в съездах. Общество не занималось теоретико-методическими проблемами (местом их обсуждения оставались Археологические съезды), не определяло конкретно-исторических направлений (они формировались прежде всего в Университете и Академии наук), не стремилось к систематическому обобщению археологических материалов, являвшемуся функцией АК.
В Петербурге первых пореформенных десятилетий шло успешное развитие обширного комплекса гуманитарных наук. Концентрация высококвалифицированных специалистов, на протяжении нескольких поколений работавших в Академии наук, Петербургском университете, Академии художеств, Эрмитаже, Публичной библиотеке, обеспечила быстрый рост этой области знаний как в количественном, так и в качественном отношении. Лингвистика, фольклористика, источниковедение древней, восточной, славянский истории достигли нового методического уровня, определившего развитие науки в следующем, XX столетии. Выделились устойчивые конкретно-исторические направления исследований как в области всего комплекса антиковед-
(155/156)
ческих дисциплин, так и в новых: скифологии, изучающей периферию античного мира; ориенталистике, поставившей вопрос об изучении кочевнических обществ; славистике, вместе с которой, на базе сравнительного языкознания, развивалось финноугроведение, а также изучение литовских языков (проблема балто-славянской общности) и иранистика.
Соотношение этих направлений во многом предопределило формирующуюся внутреннюю структуру российской археологии, характер её новых разделов, создавало методическую и фактическую базу в сфере истории и языкознания — своего рода организационную «сетку», ячейки которой археология заполняла своими материалами. Этот процесс развивался с известной неравномерностью. В области классической археологии петербургская наука к середине XIX в. достигла общеевропейского уровня и вела исследования мирового значения. Выделение скифологии в составе комплекса антиковедческих дисциплин — несомненная научная заслуга археологов России. К началу 1870-х годов были сделаны первые фундаментальные обобщения, показавшие значение археологических данных как исторических источников для этой новой отрасли. Ориенталистика (кроме продолжавшейся систематизации огромного нумизматического материала в петербургских собраниях) выдвинула ряд принципиально новых исследовательских задач, к решению которых, однако, археологи ещё не приступали. Славяно-русская археология шла пока что по пути накопления, добиваясь при этом резкого количественного увеличения материалов, но в методическом отношении далеко отставая как от лингвистики, так и от письменной истории. Наконец, первобытная археология развивалась на периферии организационной структуры АК — Эрмитаж — РАО, с опорой на естественнонаучные общества, связанные с Университетом.
В этих условиях особую остроту приобретал вопрос профессиональной подготовки археологов. В 1877 г. в Петербурге был создан Археологический институт, который возглавил Н.В. Калачёв. АИ, однако, лишь частично решал задачу обучения квалифицированных специалистов. Он был расчитан, главным образом, на специализацию выпускников университетов (историко-филологического факультета) и получивших там базисную подготовку в области археологии (античной, преподававшейся на кафедрах теории и истории искусств, и славянских древностей — на кафедрах славянской филологии, т.е. традиционных уже разделов «классической» и «национальной» археологии). Собственно археологические дисциплины в структуре преподавания занимали лишь второстепенное место. Основное внимание уделялось архивоведению. Курс «первобытной археологии» был введён лишь в 1891 г. (его читал Н.И. Веселовский). В плане археологической подготовки слушатели института совершали «археологические экскурсии» и
(156/157)
производили раскопки сопок, курганов, жальников в близких к Петербургу районах Северо-Запада. Институт издавал периодические «Сборники» и «Вестник АИ». Некоторые из работ (исследования В.А. Прохорова, И.Г. Данилова и др.) оставили определённый след в славяно-русской археологии.
Отсутствие в петербургском, как и в других университетах, кафедры археологии ставило эту науку в неравноценное положение по отношению к другим дисциплинам гуманитарного комплекса. Сложившаяся ситуация не позволяла преодолеть исторически возникшую разобщённость между первобытной и другими разделами археологии. Организационно разобщённые отрасли единой по существу дисциплины в теоретико-методическом плане неизбежно ориентировались на смежные дисциплины гуманитарного комплекса (лингвистику, искусствознание, историю), что лишь усиливало неравномерность развития отдельных разделов археологии и затрудняло систематизацию конкретных материалов, накапливавшихся во всё возрастающем количестве. Экстенсивный рост «археологической эпистемы» создавал всё большие затруднения для её парадигмалогического освоения, хотя эти трудности в известной мере компенсировались стабильностью и мощью господствовавшей в петербургской культуре общегуманитарной парадигмы, основанной на фундаменте классического образования.
3. Деятельность МАО.
Организационно-методическая работа.
Открытие исторического музея в Москве. [*] ^
Московское общество пореформенных десятилетий, как, впрочем, и в иные времена, воплощало в своей культурной деятельности в известной мере противопоставленные Петербургской (классицизированной, общеевропейской) культурной традиции, в большей степени национальные (в романтическом понимании) начала. В пору общественного подъёма, питавшегося живыми и действенными стимулами, это создавало безусловно плодотворные предпосылки для объединения активных, широких и новых сил, и активность их устремлялась не только и не столько на освоение и развитие «традиционного корпуса» знаний (в том числе археологических, культивировавшихся петербургским научным центром «триады АК — ИЭ — РАО»), сколько дальнейшим развёртыванием и наращиванием культурно-исследовательского потенциала московского центра, уже созданного А.С. Уваровым в виде параллельной триады «МАО — РИМ — АС», центра развития тех разделов археологии, которые оказались за пределами или на периферии интересов петербургских коллег. Именно эти актуальные, а в познавательном отношении — сравнительно более доступные направления археологической науки, такие, как первобытная археология
(157/158)
и региональные по существу разделы археологии «национальной» (наряду со славяно-русской сюда органично входили финно-угорская, сибирская археология, а позднее — формирующаяся на материалах археологических культур кочевых народов средневековой Евроазии «археология южнорусских степей») объединяли вокруг Москвы растущие силы местных специалистов и энтузиастов, учёных и краеведов, коллекционеров и историков. Археология России становилась всё более общественным делом, и это её преобразование (из высокоспециализированной, элитарной, изысканной «придворной» дисциплины), хотя и незавершённое, но несомненно происходившее, — бесспорная заслуга А.С. Уварова и его единомышленников.
Основным делом Московского археологического общества, созданного и возглавлявшегося А.С. Уваровым, оставалась организационная работа: сплочение сил российских археологов, формирование и распространение единых методических принципов, развёртывание новых направлений и создание исследовательских центров (способных обеспечить не только дальнейшее развитие археологии, но и тесное её взаимодействие с другими науками гуманитарного комплекса). Главным средством для решения всех этих задач на протяжении 1870 — начала 1880-х годов были археологические съезды, подготовка, проведение и публикация материалов, которые определяли работы МАО в «поздний уваровский период» (1871-1884).
На I и II Археологических съездах, проведённых в Москве и Петербурге, были найдены общие организационные принципы и методы проведения этой работы. С 1871 г. началось последовательное распространение этих принципов на деятельность наиболее подготовленных провинциальных центров. Наряду с активизацией и объединением местных сил она имела целью и формирование структуры конкретно-исторической проблематики отдельных, специализированных разделов археологии — славяно-русской, восточной и финно-угорской, скифской и классической. Но в первое десятилетие в центре внимания преимущественно оставались общие проблемы археологии, теоретико-методические и организационные (определение её предмета, метода, места в системе гуманитарных и естественных наук, методики и организации).
Перенос съездов из столиц в различные города России существенно изменил число участников. Если на I АС в Москве собралось 130 археологов, то к III АС в Киеве, пять лет спустя, их количество выросло до 204, на IV АС в Казани — 347, а на V съезде в Тифлисе в 1881 г. (последнем при жизни А.С. Уварова) — свыше 400 представителей гуманитарных наук, что свидетельствовало о росте не только научных исследований, но и общественного внимания к ним. От съезда к съезду развивалась организационная структура: количество отделений выросло с 4 до 8, охватывая и группируя новые разделы архео-
(158/159)
логии. Наряду с выставками, обязательной составной частью программ съездов стали археологические экскурсии, предварительная подготовка археологических карт и сводных работ по различным категориям источников. Особое внимание уделялось предварительной разработке программ, «общих и частных вопросов», «запросов» (или «вопросов, по которым съезду желательно получить сведения»). Составлявшие продуманную и довольно целостную систему, эти вопросы предопределяли многие направления конкретной работы на годы, а иногда и на десятилетия, способствовали концентрации знаний и упорядочению формирующихся разделов археологии, но особенно — выработке общих представлений о статусе, задачах и средствах в целом археологической науки.
Задачи, границы и объём археологии оставались первым и центральным вопросом как на первых, так и на последующих съездах. Ответы в виде «запросов», а затем и докладов И.Е. Забелина «В чём заключаются основные задачи археологии как самостоятельной науки», А.С. Уварова «Что должна обнимать программа для преподавания русской археологии», представленные и затем опубликованные в материалах III АС, в середине 1870-х годов обсуждались и осваивались в широкой научной среде. Конкретизацией этих проблем должен был стать и ответ на вопрос о том, «в каком отношении к русской археологии находится теория о трёх периодах», томсеновская «система трёх веков». В начале следующего десятилетия А.С. Уваров в монографии «Археология России. Каменный период», обобщая достоверные научные результаты открытий, дал положительный и определённый ответ на этот вопрос, но к тому времени возникнут в качестве предмета дальнейших обсуждений новые «вопросы и запросы», конкретизирующие и расширяющие структуру проблематики первобытной археологии: о хронологических границах эпохи бронзы, «торфяниковых породах» домашних животных, мегалитах Кавказа, равно как типах погребального обряда в древнерусских курганах, составе древней бронзы и кладах римских монет. Археология стремительно расширяла свои границы и насыщала новые свои объёмы непрерывно поступающим материалом. Наряду с общеметодологическими особую актуальность обретали вопросы методики археологических исследований.
Их обсуждение на съездах, а затем выработка инструкций и наглядно демонстрируемых приёмов работ — одна из важнейших заслуг МАО. Приёмы разведочного обследования, фиксации памятников, новых для российской археологии работ по изучению пещер, раскопок курганов (которые давали бы однородные и возможно полные сведения), исследование архитектурных памятников, отрабатывающиеся на практике уже в течение десятилетий в ходе полевых работ И.Е. Забелина, А.С. Уварова, Д.Я. Самоквасова, И.С. Полякова, В.Б. Анто-
(159/160)
новича, были обобщены и суммированы в принятых на III АС в 1874 г. «Инструкции для описания городищ, курганов и пещер» и «Инструкции для производства раскопок курганов». Обязательного характера, подобно современной «Инструкции к открытому листу на право производства археологических раскопок и разведок», они не имели, однако уровень требований, изложенных в них, немногим уступает современным. Традиционное представление о сравнительно низком методическом уровне дореволюционных раскопок можно считать справедливым лишь в отношении тех случаев, когда нарушались эти требования, сформулированные и широко опубликованные более ста лет тому назад.
«Инструкция для описания» (т.е. проведения разведок) предписывала не только указать точный административный адрес памятника, но и «перечислить названия всех окружающих городище населённых мест и урочищ» (так, спустя десятилетия, возвращалась в науку «система Ходаковского», сбережённая и опубликованная М.П. Погодиным). Весьма детально, с учётом рельефа, ландшафта, расстояния до ближайшего водохранилища, требовалось описать местоположение памятника. Для характеристики планировки городищ были определены и точные параметры, обязательной считалась съёмка планов. Кроме того, при фиксации городищ полагалось указать наличие ближайшей к ним курганной группы, аналогичное требование относилось также и к описаниям курганов. Столь же подробно, с указанием количества насыпей, расстояний между ними и взаимного расположения, окружности, высоты и формы насыпи, наличия каменных конструкций (валунов или плит) в основании, должна была выполняться исследователем фиксация курганов. Методика их раскопок, по крайней мере в нормативном виде, мало чем отличалась от современной, и во всяком случае отнюдь не сводилась к кладоискательским раскопкам «колодцем» (как это, к сожалению, практиковалось и до появления инструкций, и после).
«Инструкция для производства раскопок курганов» предписывала прежде всего до раскопок составить подробное описание исследуемого памятника. Особое внимание уделялось требованиям к полевому дневнику исследователя. Он должен был содержать: описание курганной группы, измерения насыпей, последовательную характеристику хода работ, устройства гробниц, положения костяков, перечень вещей на костяках и около них, планы с указанием глубины, на которой найдены предметы. Инструкция предупреждала, что «каждый курган, при раскопке которого дневник не был составлен, считается потерянным для науки». Следует отметить, что раскопки, проведённые с соблюдением всех требований «Инструкции», в тех случаях, когда до нас дошла (хотя бы частично) первоначальная документация, остаются вполне доброкачественным,
(160/161)
а порой — неоценимым источником. Очень многие приёмы столетней давности вполне могут считаться «необходимыми и достаточными» и в наши дни. Была разработана строгая, хотя и отличная от современной, система измерений (вокруг основания, через вершину и вертикальной высоты). Обязательной считалась сплошная нумерация всех курганов группы на сводном плане. Перед раскопками рекомендовалось заложить несколько в стороне от кургана пробный шурф «с целью определить слои почвы» и не сделать ошибок в интерпретации насыпи. Раскопки от вершины до основания полагалось вести послойно, хотя бы для первых курганов из группы. В случае, если можно было считать установленным полное господство в могильнике обряда трупоположения (а надо учесть, что таковыми были в подавляющем большинстве многотысячные древнерусские курганные группы, с которыми практически имели дело исследователи), то разрешалось, сняв треть насыпи, далее копать колодцем до обнаружения костяка. Затем, однако, требовалось снять все сохранявшиеся части насыпи, оставив земляной «поп» с нерасчищенным захоронением. После этого следовало приступить к расчистке «лично, удалив рабочих, и очистить весь костяк, не разделяя его частей». Строгие правила регламентировали порядок описания захоронения, взятия вещей и остеологического материала, а также образцов дерева от гробниц или колод. В случае же, если группа включала курганы с обрядом сожжения, все насыпи необходимо было исследовать только послойно, раскапывая их на снос (до материка).
Наряду с методикой раскопок и разведок, руководители МАО много внимания уделяли подготовке археологических карт. Каждому из съездов предпосылался перечень заявок на составление региональных сводных карт, а также на картографирование отдельных категорий и видов памятников. К выполнению этой работы привлекались как местные исследователи, так и археологи Москвы и Петербурга. Совершенствовалась методика картографирования. После многочисленных проб и локальных опытов (после смерти А.С. Уварова) была опубликована и разослана по всем губерниям Российской империи унифицированная легенда с вопросником (составление такой карты для Вятской губернии стало одной из первых самостоятельных археологических работ А.А. Спицына).
Неотъемлемой частью составления возможно более полных сводок данных о памятниках было «археологическое анкетирование». Опробованный ещё в XVIII столетии, этот метод также широко применялся Московским археологическим обществом. «Частные вопросы», а особенно «запросы» каждому съезду составлялись с учётом прежде всего региональной специфики (при этом спектр их непрерывно расширялся), определяя новые актуальные задачи. Если запросы, адресованные III АС в Киеве, касались кладов, валов и городищ Киевщины
(161/162)
или, скажем, того, «откуда привозят красный шифер?» (современные археологи-слависты знают: из Овруча, где был основной центр производства домонгольских шиферных пряслиц, прекрасного датирующего материала), то к IV, казанскому, съезду, наряду с археолого-этнографическими характеристиками культуры финно-угорских народов Поволжья и Приуралья, памятников Волжской Булгарии, следовали запросы о пещерах, древних рудниках, медных копях; назревало открытие камско-уральского очага культур бронзового века. К V съезду, наряду со специально кавказоведческими программами, чётко проявился интерес к «костеносным пещерам», ледниковой фауне и другим геологическим аспектам изучения памятников палеолита. Кочевническая и византийская, скифская и неолитическая проблематика реализовывались прежде всего в многочисленных «вопросах» и «запросах», количество и разнообразие которых от съезда к съезду неуклонно возрастало.
Съезды формулировали и конкретную направленность формирующихся и развивающихся разделов археологии, что отражалось как в организационной структуре, так и в заявляемых для докладов и обсуждавшихся темах. Для III (киевского) АС такой темой была «историческая география и этнография России и славянских земель», упорядочивавшая достигнутые результаты славяноведческих исследований. В связи с нею вновь поднимались и вопросы методики курганных раскопок, и связанная с переоценкой «теории Ходаковского» проблема назначения городищ (в работах Д.Я. Самоквасова они были атрибутированы как остатки древних укрепленных поселений, т.е. особая категория археологических источников). На IV АС в Казани, наряду с программами археолого-этнографического изучения Поволжья и Приуралья, были намечены перспективы исследования сибирской и в целом кочевнической проблематики. Тифлисский, V АС, определил направления, а во многом и подвёл первые итоги необычайно широких по диапазону востоковедческих и специально кавказоведческих изысканий, особенно интересных первыми опытами координации лингвистических и археологических работ. На VI АС в Одессе скифская археология включила в корпус своих положений принципиально важные выводы лингвистики об идентификации населения припонтийских степей как ираноязычного. Здесь же были впервые определены задачи археологического византиноведения. Каждый съезд «позднего уваровского периода» отмечен тем или иным качественным сдвигом в развитии конкретно-исторической проблематики, появлением новых (с тех пор более или менее устойчиво, но непрерывно развивающихся) разделов российской археологии.
Таким образом, складывалась и региональная структура археологической проблематики центральных районов России, Украины, Кавказа и Поволжья, Причерноморья и северо-запад-
(162/163)
ных губерний. Концентрация сил археологов на разработке перспективных, актуальных, с точки зрения развития науки, направлений требовала создания новых организационных форм, МАО в этом отношении оставалось не только образцом, но и инициатором, объединявшим наиболее активных исследователей в Предварительные комитеты по подготовке съездов (происходила своего рода ревизия «местных ресурсов»). Наряду с общими организационно-методическими вопросами, на первых съездах видное место занимали проекты устройства областных археологических обществ, библиотек, коллекций и музеев, учебных пособий и методики преподавания археологии.
Выдвигая эти задачи, в дальнейшем в той или иной мере решенные для ряда провинциальных научных центров, МАО одновременно стремилось использовать съезды и как практическую базу для наглядного и эффективного обучения археологов, унификации требований и навыков, прежде всего полевой методики. Средством такого обучения стали «археологические экскурсии», устройство которых после III АС в Киеве стало обязательным элементом программы съездов. А.С. Уваров следующим образом определял задачи этих тщательно подготовленных показательных работ: «Мы хотели на самом месте определить и, так сказать, приложить то, что слышали на заседаниях: мы разрывали группу курганов у с. Гатного с целью определить погребальные обычаи племени, издревле населявшего Киевскую область; затем мы осматривали местоположение древнего Витичева, упоминаемого у Константина Багрянородного; у с. Монастырки отыскивали древнюю пещеру; в Вышгороде старались разрыть основание и отыскать абрис древнего храма во имя св. Бориса и Глеба...». [44] Материал археологических «экскурсий» участников съездов охватывал (с учётом местной специфики) широкий диапазон памятников — от глубокой первобытности до эпохи средневековья.
Исторический музей в Москве должен был стать по существу обобщённым, стабильным и всеобъемлющим выражением того же подхода, главной национальной экспозицией в исторической столице страны. Целенаправленный и всеобщий охват древностей всех эпох, составлявших прошлое России с доисторических времён и до становления наивысшего могущества Российской империи, рассматривавшейся не просто как «сверхдержава», но как выражение творческой энергии и общественной мощи её народа, во всей совокупности классов, сословий и сил, притом не в политическом, а в историко-культурном, наиболее продуктивном и непреходящем их проявлении, — вот основа замысла центрального общественно-просветительского учреждения, созданного Московским археологическим обществом. Учреждённый официально в 1873 г., Исторический музей в апреле 1874 г. получил место под постройку здания на Красной площади напротив храма Василия Блаженного; само со-
(163/164)
единение в архитектурном ансамбле древних стен Кремля, окружающих храмов и памятников и выражавшего ключевые идеи национальной истории нового архитектурного сооружения, создавало мощный «семантический аккорд», обогативший культуру Москвы и России. Здание, по проекту архитектора В.О. Шервуда и инженера А.А. Семёнова, было заложено 20 августа 1875 г. и торжественно открыто 27 мая 1883 г.
Исторический музей стал воплощением стройной и целостной архитектурно-исторической концепции, положенной в основу проектирования, последовательно выраженной в процессе строительства и органично связанной с внутренним оформлением, построением, содержанием и решением музейной экспозиции.(45) [45] Архитектор В.О. Шервуд руководствовался историко-философской доктриной Н.Я. Данилевского, одного из создателей «теории культурно-исторического типа», тесно связанной с парадигмой «бытописательской археологии» уваровского периода. Безусловной заслугой В.О. Шервуда стали выявленные им закономерности древнерусской архитектуры, изложенные в его письмах к И.Е. Забелину и пояснительных записках к проекту Исторического музея, а позднее (в 1895 г.) — в книге «Опыт исследования законов искусства. Живопись, скульптура, архитектура и орнаментика». В построенном им здании Исторического музея были последовательно применены основные композиционные приёмы и принципы древнерусского зодчества, позволившие В.О. Шервуду добиться ансамблевости звучания доминант — башен Кремля, с устремлёнными в небо главами храма Василия Блаженного и пилонами музея. Архитектурному воплощению «исторической идеи» соответствовало планировочное решение и убранство интерьеров здания, которые в свою очередь дополняли и раскрывали взаимную связь размещённых здесь археологических коллекций. Если убранство вестибюля, выполненное по проекту А.П. Попова резчиком А.И. Шмидтом, скульпторами С.И. Ивановым и А.М. Постниковым, живописцем Е.Г. Тороповым, несло отпечаток официально-монархических начал, то грандиозный фриз «Каменный век», созданный в круглом зале В.М. Васнецовым, раскрывал последовательные этапы развития первобытной культуры или «быт людей каменного периода» (охоту на мамонта, рыболовство, стрельбу из лука в птиц, добывание огня, обработку камня, кости, шкур, дерева, изготовление керамики и т.п.; стены были украшены неолитическими орнаментами, скопированными с керамических сосудов). Панорама первобытности, казалось бы, нарушавшая самоочевидные хронологические соотношения, когда в одном художественном пространстве соединялись явления, тысячелетиями разделённые во времени, была своего рода живописным «семантическим аккордом», перекликавшимся с архитектурным образом здания на Красной площади. Посетитель, пронизанный ещё свежим ощущением не-
(164/165)
посредственного воздействия каменных громад и блистающего золота исторических святынь — свидетельств многовековой истории России, здесь, в освещенном отсветами московского неба пространстве интерьера, получал образное художественное воздействие, настраивающее на углублённые размышления о многотысячелетнем пути всего Человечества. И завоевания культуры, осуществлённые множеством поколений безымянных и далеких охотников, мастеров, творцов, проступали глубоким, всемирно значимым, общечеловеческим фундаментом стройного и величественного исторического здания, воплощавшего собственно национальный, исторический путь страны и народа во всём разнообразии сменявших друг друга на российском пространстве с доисторических времён эпох, поколений, племён и культур.
В залах, посвящённых следующим историческим периодам, наряду с археологическими коллекциями, были помещены копии с росписей керченских склепов, воспроизводящие кочевой быт степных племён северного Причерноморья, копии с мозаик и фресок Софийского собора в Киеве, росписей храма Спаса-Нередицы в Новгороде и владимирского Успенского собора; в отделке интерьеров использовались характерные для новгородских храмов архитектурные детали и каменные кресты, копия с Корсунских врат Софийского собора и прорисовка панорамы Великого Новгорода с рисунка XVII в.
Основные этапы отечественной истории от каменного века до конца средневековья раскрывались в конкретике их подлинного художественного выражения, возвращённого из глубины веков усилиями археологов и включённого в современный контекст российской культуры.
Археологическая экспозиция дополнялась антропологической, созданной по программе, разработанной в 1879 г. Д.Н. Анучиным. В коллекциях анатомо-морфологического, палеонтолого-археологического и этнологического отделов воплощались материалистические, естественно-исторические представления, реализовавшие по существу уже эволюционистскую парадигму в археологии. Выражая высшие итоговые достижения российской исторической мысли в этой части экспозиции, Исторический музей раскрывал и перспективные, магистральные линии развития мировой археологической науки.
4. Развитие славяно-русской археологии. III АС в Киеве. ^
В конце 1860-х годов славянская археология, на протяжении предшествующих десятилетий остававшаяся сферой интересов почти исключительно учёных славянских стран, завершила переход от этапа «первоначального накопления» вещественных источников к постановке и освоению методических
(165/166)
задач, определению средств для их решения, разработке последовательного научного подхода, позволяющего от первичной классификации материала подойти к его анализу, а затем — к первым опытам исторических интерпретаций и реконструкций. По мере развития этого процесса, освоения «общенаучного языка» археологии, её славяно-русская отрасль сближалась с другими разделами археологической науки. Эта «национальная дисциплина» приобретала более широкое значение и вызывала заинтересованное участие в своём развитии со стороны специалистов других стран и зарубежных научных школ.
Уже с первых своих шагов процесс адаптации славяно-русского раздела в основном корпусе археологического знания требовал последовательного решения определённых элементарных задач. Во-первых, необходимо было выделить общепризнанный и ясный «индикатор» славянских древностей, характерный вид артефактов (или набор признаков), позволяющий отнести те или иные находки и комплексы к славянской археологической культуре (или, по крайней мере, до выделения самого понятия «археологическая культура», определить данные памятники как «славянские»). Далее, по мере того, как росло количество этих памятников, в результате интенсивных полевых исследований формировались всё более значимые, компактные и достаточно целостные массивы древностей, охватывавшие своим распространением обширные территории древнего расселения славянства. Требовалось получить данные и опубликовать характеристики наиболее показательных, ключевых памятников, которые могли бы послужить эталоном славяно-русских древностей. Соотнесение с этим эталоном было необходимо не только для выделения славянских памятников из инокультурного контекста, но и для дальнейшей их систематизации — прежде всего выделения основных категорий древностей. Следующий шаг исследовательского алгоритма — анализ каждой из этих категорий, т.е. разделение памятников (комплексов, вещей) на типы. Практическое освоение и реализация этого алгоритма в исследовательской практике, вплотную подводившее к освоению основ типологического метода, по существу означали приобщение к господствовавшей парадигме эволюционизма.
Славяно-русская археология тем самым обретала возможность занять собственное место в общеевропейской системе древностей. И вполне естественно, что решение этой задачи становилось уже не только «славянским», но и общеевропейским делом, значимым для зарубежных учёных. Они становятся не только участниками Археологических съездов, но и активными исследователями, иной раз вносящими важный вклад в развитие этого «национального раздела» археологии. Так, в 1868 г. Рудольф Вирхов (1821-1902), основатель Берлинского общества антропологии, этнологии, доистории, изда-
(166/167)
тель «Zeitschrift für Ethnologie» «Этнологического журнала»), ведущий в те годы исследователь древностей бронзового и железного века в Германии, при раскопках на острове Рюген впервые выделил и охарактеризовал славянскую керамику с волнисто-линейным орнаментом, отделив её от нижележащей лужицкой эпохи раннего железа и бронзы. В результате этого определения славянские памятники обрели практически универсальный и общепринятый археологический индикатор. На этом основании впервые получили этнокультурную атрибуцию многочисленные славянские городища Померании, Мекленбурга и Бранденбурга (те территории, где до XII в. обитали полабские и балтийские славяне, вытесненные, истреблённые или ассимилированные немецкими крестоносцами в XII-XIII вв.). Существенно расширились и получили материальное подтверждение представления об исторической географии славянских земель, а особое значение для такого рода исследований приобретали археологические данные — керамика городищ.
Именно поэтому славянская археология России и других славянских стран была избрана центральной темой следующего после первых двух «столичных», III археологического съезда. Местом его проведения стал Киев — древняя славянская столица. Киев был не только крупным научным центром, но и одним из основных в тот период объектов историко-археологических исследований.
Первые более или менее систематичные описания киевских древностей появились уже в начале XIX в. Среди них особо следует отметить «Краткое описание Киева», изданное в Петербурге в 1820 г. М. Берлинским, — один из первых опытов восстановления исторической топографии древней «всероссийской столицы». В 1836 г. началась многолетняя деятельность митрополита Евгения (Болховитинова); неутомимого исследователя киевского прошлого, Н.В. Закревского, создателя ряда фундаментальных сводок письменных, топонимических источников, топографических фактов и наблюдений. В 1847 г. губернатор города И. Фундуклей выпустил в свет «Обозрение Киева в отношении к древностям». В последующие двадцать лет были изданы основные материалы Н.В. Закревского — «Летопись и описание города Киева» (М., 1858) и «Описание Киева» (Т. 1-2. М., 1868). В 1871 г. появился обстоятельный труд Н. Сементовского «Киев, его святыня, древности, достопамятности». Наконец, в 1874 г. Временной комиссией для разбора древних актов под председательством М. Юзефовича был опубликован «Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей», который стал своего рода энциклопедическим справочником для участников III АС. Ни один из древнерусских городов не обладал тогда настолько разработанной источниковедческой базой: сведения летописей, актов и грамот XVII-XVIII вв. были соотнесены с реальной топографией,
(167/168)
ещё сохранявшей вполне опознаваемые исторические черты; зафиксированы важные данные о гидрографии, значительно изменившейся в новое время; отмечен ряд археологических памятников, многие из которых были в дальнейшем утрачены.
В отдельных случаях сделанные наблюдения носили направленно-археологический характер. Так, И. Фундуклей опубликовал изображение «варяжского шлема, найденного при разрушении старокиевских валов». В 1825-1826 гг. по инициативе Болховитинова и под руководством Ефимова были проведены первые раскопки остатков Десятинной церкви: во внутреннем пространстве были исследованы две гробницы из красного шифера, найдены фрагменты фресок, мозаики, куски мраморных архитектурных украшений, металлические вещи. На основании этих раскопок, по проекту архитектора В.П. Стасова, было выстроено новое здание Десятинной церкви в «византийском стиле».
Новый этап развития киевской археологии полностью связан с деятельностью В.Б. Антоновича, ставшего председателем киевского отдела Предварительного комитета III АС. Под его руководством в 1874 г. была завершена работа по составлению археолого-топографических карт Киева, археологической карты Среднего Поднепровья. В программу съезда были включены такие масштабные археологические темы, как топография Киева, киевская архитектура X-XIII вв., археологические карты Киевского княжества, Литвы, Кривичской земли, сводка кладов на территории древнерусского Киевского княжества, предметы торговли Киева с зарубежными странами, характер оборонительных сооружений, легендарных «Змиевых валов» и городищ на границе Древней Руси со степью. Наконец, одно из центральных мест занял вопрос «Об историческом значении городищ», ставший одной из основных проблем развивающейся славянской археологии (к нему не обращались уже почти полвека — со времен Ходаковского). Лишь в начале 1870-х годов, именно ко времени проведения киевского АС, в изучении этой проблемы произошёл резкий качественный сдвиг, определивший новый уровень состояния славяно-русской археологии.
Дмитрий Яковлевич Самоквасов (1843-1911), профессор Варшавского университета, историк права и археолог-славист, стал одним из ведущих исследователей нового этапа. Начало его археологической деятельности отмечено подготовкой фундаментальной сводной работы «Древние города России» (СПб., 1873), где был не только поставлен, но и правильно решён вопрос о характере городищ как остатков укреплённых поселений; дан полный систематический обзор этих памятников, как связанных с хорошо известными историческими центрами, так и по существу безымянных древнерусских укреплений, а вместе с ними порою и значительно более ранних памятников, разбросанных по большим и малым рекам на всем про-
(168/169)
странстве России. С этих пор городища вошли в состав принципиально важных археологических памятников. Постепенно и стихийно началось их изучение. Первые раскопки оказались в дальнейшей перспективе принципиально важными не только для славянского, но и для других, новых разделов археологии (так, в 1889 г. В.И. Сизов начал изучение Дьякова городища под Москвой, ставшего эпонимным для дьяковской культуры раннего железного века, относящейся уже не к славяно-русской, а скорее к финно-угорской археологии). Магистральные перспективы изучения этой категории древностей были определены правильно и надолго вперёд.
Оценив значение городищ, Д.Я. Самоквасов в дальнейшем сосредоточился на исследовании уже традиционного для славяно-русской археологии источника — курганов. Один из его докладов на киевском III АС 1874 г. был посвящён значению «северянских курганов для истории», а применявшаяся им методика раскопок была положена в основу принятой съездом «Инструкции». И в том, и в другом случаях участниками съезда по достоинству высоко были оценены первые результаты масштабного цикла исследований Д.Я. Самоквасова, начатых в 1872 г. и продолжавшихся около 40 лет.
Эти работы были сосредоточены во втором по значению после Киева центре «Русской Земли» Среднего Поднепровья, древнерусском Чернигове. Здесь сохранилось к тому времени свыше 500 курганов, образовывавших полтора десятка курганных групп, разбросанных в черте города и его окрестностях. В 1872-1873 гг. Д.Я. Самоквасов раскопал, а затем восстановил в близком к первоначальному виде самый знаменитый из них — курган Чёрная Могила. На обширном кострище, устроенном на специальной подсыпке, были открыты остатки захоронений по обряду сожжения с исключительно богатым инвентарём: великолепно убранные мечи, редкая для памятников IX-X вв. сабля, десять копий, кольчуги, два шлема; покойники, преданные огню, были уложены в богатой одежде, со шлемами на головах, оружие сложено в груду рядом. Особым великолепием отличались предметы, связанные с погребальной тризной и пиршественными ритуалами: дюжина вёдер (с мёдом?) и два турьих рога в серебряной оправе (на одном — изысканный растительный орнамент, на другом — сложная сюжетная композиция, отразившая мифоэпические представления высшего слоя знати языческой Руси).
Чёрная Могила, безусловно, производила впечатление уникального памятника. Насыпи подобного «княжеского ранга» ещё не были известны, а прекрасная сохранность вооружения, изумительных изделий торевтики ставила этот памятник наравне с прославленными уже скифскими курганами. Открывался новый хронологический горизонт, новый исследовательский потенциал славяно-русской археологии.
(169/170)
Несомненной заслугой Д.Я. Самоквасова стала организация систематического исследования этого горизонта памятников. Всего в Чернигове он раскопал 150 курганов, что создавало по существу первую основу для типохронологической классификации древнерусских погребальных насыпей Среднего Поднепровья. Этой работой исследователь занимался на протяжении всей жизни. В 1908 г. был издан его итоговый труд — «Могилы Русской земли». Наряду с исследованиями на Черниговщине (важные результаты этих работ были опубликованы уже после его смерти), Д.Я. Самоквасов стремился к созданию обобщения всего массива изученных археологами курганных древностей — от эпохи бронзы до средневековья. В работе «Основания хронологической классификации» (Варшава, 1892) он подводил итоги этих исследований, а они в свою очередь стали основой его следующего обобщающего труда «Происхождение русского народа» (М., 1908). Собранная Д.Я. Самоквасовым на протяжении его исследовательской деятельности коллекция археологических материалов была передана в Исторический музей в Москве.
Работы в Чернигове, где, в отличие от Киева, древнерусский курганный некрополь вплоть до 1870-х годов сохранялся неразрушенным и во вполне доступном для изучения состоянии (не менее богатые и выразительные курганные группы того же времени в Киеве практически уже исчезли с лица земли, и лишь в ближайших окрестностях города ещё сохранялись многие сотни насыпей, изучение которых развернулось в следующих десятилетиях), создали прочную базу для развёртывания работ, направленных на выявление и систематизацию древнерусских материалов в центральных памятниках, связанных с ведущими политическими центрами Древней Руси. Наряду с Черниговом, в число таких памятников по мере развёртывания раскопок выдвигалось Гнёздово под Смоленском. После того как в 1868 г. в Эрмитаж поступил знаменитый гнёздовский клад серебряных вещей X в., найденный в земляном валу при строительных железнодорожных работах, археологи обратили внимание на грандиозное курганное поле, расположенное вокруг Большого Гнёздовского городища на берегу Днепра, насчитывавшее (вместе с близлежащими отдельными курганными группами) не менее 5 тыс. насыпей. Гнёздовский курганный могильник, крупнейший в Европе, стал объектом целенаправленных археологических изысканий с 1874 г. когда М.Ф. Кусцинский провёл здесь раскопки первых полутора десятков насыпей. Среди исследованных им курганов оказались выразительные воинские погребения с оружием, в том числе наиболее ранние, относящиеся к IX в. С 1880 г. к работам в Гнёздове приступил В.И. Сизов, крупнейший из дореволюционных исследователей могильника и в целом погребальных памятников Смоленской земли (включая так называемые
(170/171)
«длинные курганы» с сожжениями и древнерусские могильники летописных кривичей). В 1902 г. в томе MAP №28 был издан труд В.И. Сизова «Курганы Смоленской губернии», но практически результаты этих работ вошли в русскую науку значительно раньше. Без преувеличения можно считать, что уже в середине 1870-х годов Гнёздовский могильник приобрёл значение центрального памятника славяно-русской археологии, сохраняющееся за ним до наших дней. Эталонный в хронологическом отношении материал, пополняющийся данными о кладах, а в советское время и о торгово-ремесленных поселениях IX-X вв., стал ключевым для разработки сложного комплекса проблем славянского расселения в лесной зоне, формирования торгово-ремесленных центров, древнерусской дружины, дискуссии по «варяжскому вопросу», развернувшейся в первой половине XX в., — для всей совокупности тем, относящихся к археологическому аспекту проблемы образования Древнерусского государства.
Открытие Гнёздова и Чернигова как археологических памятников, наряду с продолжавшимся изучением Киева, определило структуру складывающейся славяно-русской археологии, её центральные, ключевые объекты, эталонные комплексы и образцы вещей. Вместе с начатыми в те же годы работами Л.К. Ивановского на Ижорском плато, H.Е. Бранденбурга — в Приладожье, эти открытия сформировали основу источниковой базы, сохраняющуюся по существу до наших дней. Таким образом, археологами «уваровского периода» была решена одна из неотложных для того времени задач развития этой отрасли археологических знаний; подготавливались условия для развёртывания научной деятельности следующего поколения отечественных археологов, для подготовки первых обобщений и создания карты расселения славянских племён, основанной на археологических материалах. Племенная атрибуция курганов, типология погребальных обрядов обсуждались на всех следующих после III АС в Киеве археологических съездах. Итоги этих исследований подвела работа А.А. Спицына «Расселение древнерусских племеён по археологическим данным» (1899 г.).
С другой стороны, проведение в 1874 г. съезда в Киеве, активизация деятельности В.Б. Антоновича и связанных с ним учёных стимулировали рост внимания к созданию полных культурно-хронологических колонок для отдельных территорий, в данном случае для Среднего Поднепровья. Поиск памятников каменного века и древностей, связывающих их в единую цепь с древнерусскими, развернулся уже в начале 1870-х годов. Особенно результативным он стал в последующие десятилетия, после того, как под руководством В.Б. Антоновича, а затем и самостоятельно, его ученик В.В. Хвойка осуществил серию блистательных открытий новых групп древностей — Кириллов-
(171/172)
ской палеолитической стоянки, памятников Триполья, зарубинецкой и черняховской культур. Принцип сплошного хронологического охвата территории Поднепровья, реализованный в исследованиях В.Б. Антоновича, отражён в изданных позднее многотомных публикациях братьев Б.И. [и] В.И. Ханенко — «Древности Приднепровья и побережья Черного моря» (Киев, 1898-1907), где в шести томах были суммированы материалы от палеолита до Древней Руси. По существу тому же культурно-хронологическому принципу подчинялась и фундаментальная публикация И.И. Толстого и Н.П. Кондакова «Русские древности в памятниках искусства» — серия хронологически сгруппированных материалов, издававшаяся с 1889 г. Русские древности, представленные наиболее выразительными и яркими образцами произведений различных эпох и культур, становились звеном единой цепи историко-культурного процесса; создавалась его «археологическая версия», органично включавшая памятники палеолита и энеолита, бронзы и скифского времени, античные, сарматские, готские, славяно-русские. «Русские древности», выявляемые и исследуемые археологами, осознавались как историко-культурное явление всемирно-исторического значения, как самостоятельная ценность в едином фонде общечеловеческих достижений.
5. Развитие восточной и зарождение финно-угорской археологии. IV АС в Казани. ^
Подготовка и проведение IV Археологического съезда в Казани в 1877 г. имели для развития восточной, а особенно зарождавшейся как её восточноевропейское ответвление финно-угорской археологии значение примерно такое же, как III АС в Киеве — для археологии славяно-русской. «Национальная археология», развивавшаяся в столичных центрах России, естественно, несколько опережала становление тематически близких «неславянских» разделов изучения инокультурных древностей, территориально и исторически связанных со славянами народов степной и лесной зон Евразии (кочевников, главным образом тюркских, и осёдлых финно-угров). Однако «методологическая экспансия», распространение достижений сложившихся и развитых разделов науки на смежные, возникающие и развивающиеся, вела к форсированному и успешному становлению этих новых разделов. За сравнительно короткое время они прошли тот же эталонный путь, освоили исследовательские алгоритмы, разработанные классической и славянской археологией: от первичных сводок накопленного и освоенного материала (вещественных древностей с данными смежных наук — письменными источниками, материалами этнографии, лингвистики и др.) к установлению взаимосвязей тематически
(172/173)
близких разделов гуманитарных дисциплин, в каждом из случаев образующих специфический, специализированный «гуманитарный комплекс» корпуса знаний, что позволяло более точно и полно определить историческую специфику проблематики этого комплекса, а затем — основы методического подхода к исследованию собственно археологических источников. Как и в славяно-русской археологии, алгоритм этого подхода заключался в определении эталонов древностей, выделении и характеристике их категорий и дальнейшем их анализе на основе применения типологического метода.
Новые разделы отечественной археологии «позднеуваровского периода» проходили этот путь развития динамично и успешно. Во многом это определялось проявившейся способностью московского организационного центра стимулировать и поддерживать активность местных исследовательских сил. Как и в Киеве, при подготовке IV АС в Казани местных ученых объединял прежде всего Казанский университет. Созданный при нём для организации очередного Археологического съезда Подготовительный комитет (под председательством П.Д. Шестакова) в качестве предварительной работы провёл разносторонние и исключительно широкие исследования. Ко времени проведения съезда результаты этих исследований были опубликованы рядом исследователей: Е.Т. Соловьёв — «Археологическая карта Казанской губернии», И.А. Износков и Н.И. Золотницкий — «Этнографическая карта Казанской губернии», С.М. Шпилевский — «Древние города и другие булгарско-татарские памятники в Казанской губернии», П.Г. Заринский — «Очерки древней Казани преимущественно XVI в.», К.И. Невоструев — «Список с писцовых книг по г. Казани с уездом», Н.И. Золотницкий — «Невидимый мир по шаманским воззрениям черемис» (эти публикации были осуществлены в 1877 г., в год проведения съезда). Историческая связь Казани с мусульманской Волжской Булгарией X-XIII вв. определяла особые интересы и роль в проведении съезда русских ориенталистов, а в его материалах — в выступлении А.Я. Гаркави — получила дальнейшую разработку тема исторической географии и этнографии Восточной Европы по арабским источникам. Он же проанализировал известное письмо хазарского царя Иосифа — наиболее раннюю и достоверную сводку исторических известий о Хазарии. «Пространная редакция» этого документа была обнаружена А.Я. Гаркави в 1874 г. в собрании рукописей крымского коллекционера А.С. Фирковича. Незадолго до IV АС, в 1876 г., на III Международном конгрессе ориенталистов в Петербурге британский востоковед Г. Говорс, в противоположность господствовавшему тогда мнению об угорской языковой принадлежности хазар (этой точки зрения придерживались X.Д. Френ и ряд ведущих зарубежных исследователей), обосновал вывод об их тюркоязычности. «Простран-
(173/174)
ная редакция письма царя Иосифа» оказалась важнейшим историческим документом, раскрывающим роль тюркских народов в ранней истории Восточной Европы.
Тема кочевников в российской ориенталистике, наиболее интенсивно разрабатывавшаяся в эти годы в связи с историей хазар, охватывала и проблематику Волжской Булгарии, Половецкой степи, степной зоны Сибири. Через десять лет после Казанского съезда первые итоги изучения этой проблематики были подведены в работе П.В. Голубовского «Болгары и хазары — восточные соседи Руси при Владимире Святом». В то же время булгаро-хазарская тематика тесно связана с финно-угорской. Ещё в 1852 г. К.И. Невоструев, опираясь на данные булгарских летописей, обратился к поиску отмеченных в них археологических памятников. В результате близ Елабуги был открыт Ананьинский могильник, эпонимный для культуры и хронологической эпохи раннего железного века (IX-V вв. до н.э.) Поволжья и Приуралья. Материалы раскопок, проведённых в 1858 г. П.В. Алабиным и И.В. Шишкиным (отцом известного художника), впервые были доложены в 1869 г. К.И. Невоструевым ещё на I АС в Москве. Ананьинские каменные стелы с изображениями воинов, короткие железные и бронзовые акинаки, прорезные бронзовые копья и втульчатые топоры-кельты стали эталонными образцами материальной культуры, искусства, идеологических представлений древнейших финно-угров.
Среди российских археологов, обратившихся к изучению этих неславянских древностей, на первое место выступили учёные Финляндии, входившей в состав Российской империи. Основоположник финно-угорской археологии, основатель и председатель Финляндского общества изучения древностей, профессор Хельсинкского университета и первый «государственный археолог» Финляндии (пост, учрежденный по образцу шведского в 1885 г.) Иоханнес Рейнхольд Аспелин (1842-1915) в 1877-1884 гг. осуществил многотомное издание «Древностей северных финно-угров» (на франц. яз.). Этой энциклопедии финно-угорской археологии, не утратившей своего значения и в наше время, предшествовала формулировка основных принципов и задач нового раздела археологического знания, опубликованная Аспелином в 1875 г. в Финляндии. Через десять лет он издал первую сводную работу по археологии Финляндии. Преемниками и продолжателями дела Аспелина стали финские археологи Альфред Хакманн (1864-1942), исследователь бронзового и раннего железного веков, и крупнейший финский специалист Арне Тальгрен (1885-1945), первым обобщивший материалы ананьинской культуры и ряда других групп памятников эпохи бронзы и железного века на обширной территории от Ботнического залива до Минусинской котловины.
(174/175)
Основы тесных научных взаимодействий учёных Финляндии и России были заложены Аспелином. На протяжении 1880-х годов он был организатором и руководителем ряда экспедиций в Сибирь и Монголию (в 1887, 1888, 1889 гг.), что привело к резкому росту качественного уровня и существенным достижениям как финно-угроведческих, так и тюркологических исследований. Связи с северо-европейской археологией в эти годы не ограничивались конкретно-исторической тематикой, но впервые вышли и на уровень освоения передовых методических достижений. Доклад Аспелина на IV АС «О потребности изучения форм предметов и постепенном развитии этих форм в доисторических вещах» представлял собой одно из первых в мировой науке изложение основ типологического метода (и при этом опубликованное на русском языке), в эти годы в ходе практической музейной работы создававшегося Хансом Хильдебрандом и Оскаром Монтелиусом — «моим другом», как назвал его Аспелин. На примере финно-угорских украшений, выстроенных в типологические ряды, Аспелин наглядно и убедительно обосновал важный методический принцип, заключавшийся в том, что если имеются серии подобных друг другу предметов и «если предметы древности, найденные вместе с ними, обнаруживают какую-либо повторяющуюся общую особенность, то на это уже нельзя смотреть как на случайность, и надо полагать, что эти предметы означают одну историческую культуру» (курсив наш. — Г.Л.). Так в Казани, в 1877 г. было дано одно из первых в мировой науке определений нового понятия «археологическая культура», основанное на принципах ещё находящегося в процессе становления типологического метода, принципах, по поводу которых археологи России 1870-х годов вели дискуссии едва ли не раньше, чем их западноевропейские коллеги.
Стремительное развитие новых разделов археологии закономерно вело к прогрессу в методическом и методологическом отношении. Археология «позднего уваровского периода» выходила на передовые рубежи мировой археологии. Внутренний потенциал отечественной науки в эти годы был исключительно высок, а созданная организационная структура вполне позволяла его реализовать.
6. Кавказская археология и V АС в Тифлисе.
Конец «уваровского периода» в развитии археологии России. ^
V Археологический съезд в Тифлисе в 1881 г., завершающий уваровский период, по своим научным результатам, организации и обозначившимся перспективам дальнейших исследований, следует признать наиболее полным выражением возможностей и достижений созданной А.С. Уваровым научно-орга-
(175/176)
низационной системы. Именно здесь, на Кавказе, она стала мощным средством для кристаллизации постепенно, исподволь складывавшихся научных направлений и дисциплин, охватывавших широкий диапазон археологической и в целом гуманитарной проблематики, развитие которой представляло собой своего рода международное обязательство России, объединяя археологов, этнографов, лингвистов Москвы и Петербурга, ряда русских научных центров и наиболее деятельных представителей местной, грузинской и армянской интеллигенции, а также ориенталистов и археологов Франции, Германии, Англии. Поиски руин древней армянской столицы Армавира ещё в 1812 и 1817 гг. привлекли британских исследователей У. Аузлея и Р. Кер-Портера (позднее здесь побывал известный швейцарский путешественник Ж. Дюбуа де Монпере, а также один из создателей западноевропейской археологии бронзового века Б. Шантр). Неоценимую помощь зарубежным исследователям оказали эчмиадзинские монахи О. Шахатунян и М. Смбтян, составившие описание древней крепости и обнаружившие ряд клинообразных надписей (как показали дальнейшие изыскания — урартских). Одна из первых коллекций кавказских древностей была собрана, а затем, при создании в 1859 г. Археологической комиссии, передана в Эрмитаж ереванским военным губернатором Н.П. Колюбакиным; древностями интересовался нахичеванский городничий H.Н. Квартано. Особое внимание как отечественных, так и зарубежных исследователей привлекали клинообразные надписи (в 1862-1863 гг. они были открыты на берегах р. Арпачая и озера Севан, а в 1869 г. в Армавире были найдены надписи царей Аргишти I и Русы III). Дешифровка урартских текстов особенно продвинулась после издания в 1880 г. труда французского ассириолога Гюйара. В 1882 г. Британское азиатское общество опубликовало первую сводку переводов урартских текстов. В России одним из первых исследователей клинообразных надписей, бесценных исторических документов царства Урарту, был К.П. Патканов. [46]
Активизация местных центров, вызванная деятельностью первых археологических съездов, выразилась в организации Кавказского археологического комитета, созданного в октябре 1871 г. На следующий год один из членов Комитета А.Д. Ерицов (Ерицян) начал издание журнала «Кавказская старина»; в 1873 г. комитет был реорганизован в «Общество любителей кавказской археологии», на которое и была возложена значительная часть работы по подготовке V АС.
Значительную роль в развитии кавказоведческих исследований сыграл сотрудник канцелярии кавказского наместника А.П. Берже, получивший востоковедческое образование в Петербургском университете. С 1852 г. он занимался сбором исторических документов, работал в составе Кавказской археогра-
(176/177)
фической комиссии, осуществил десятитомное издание «Актов, собранных Кавказской Археографической комиссией» (Тифлис, 1866-1885). Ему же принадлежат первые обзорные работы по кавказской археологии и этнографии — «Кавказ в археологическом отношении» (Тифлис, 1874) и «Этнографическое обозрение Кавказа» (СПб., 1879).
Подготовительный комитет, под председательством С.А. Талызина, а в дальнейшем А.В. Комарова, начал свою работу в 1878 г. Наместник кавказский вел.кн. Михаил Николаевич выделил на подготовительные работы правительственные субсидии — 5 тыс. руб. (ежегодно, в течение трёх лет). В организации исследований приняли деятельное участие А.С. Уваров, В.Б. Антонович, И.С. Поляков, Ф.С. Байерн, Д.З. Бакрадзе, А.П. Берже, В.Л. Бернштам, А.Я. Гаркави, А.Д. Ерицов, И.Е. Забелин, Л.П. Загурский, И.Д. Мансветов, Д.П. Пурцеладзе, Г.Е. Церетели, Н.О. Цилосани, Н.О. Эмин и многие другие учёные. «Труды Предварительных комитетов» V АС заняли особый, изданный в 1882 г. том, объемом свыше 600 с.
Исследования были подчинены нескольким взаимосогласованным программам, охватывали различные разделы археологии, антропологии, лингвистики, этнографии, изучение письменных и архитектурных памятников. Принципиально важные результаты были получены в ходе реализации лингвистических программ, подготовленных филологами Л.П. Загурским, Н.О. Эминым и особенно В.Ф. Миллером, занимавшимся в эти годы изучением осетинских языков (далее, на основе этих исследований, была осуществлена этноязыковая атрибуция древнего ираноязычного населения, оставившего скифские, и сменяющие их сарматские памятники восточноевропейской степной зоны). Лингвистические программы одной из главных задач выдвигали «восстановление культуры горских народов из их языка». Десятилетия спустя именно этот методический подход (разрабатывавшийся и в славяноведении) стал основой «нового учения о языке» Н.Я. Марра, оказавшего огромное воздействие на методологию «теории стадиальности», первой общеметодологической концепции в советской археологии. Антропологические исследования на Кавказе (по программе, подготовленной А.А. Ивановским) были проведены при участии Р. Вирхова, привлечённого и к археологическим работам. Изучением Эчмиадзинской библиотеки, ценнейшего собрания уникальных древнеармянских рукописей, занялся А.С. Уваров; памятниками грузинской письменности — А.А. Цагарели и Д.З. Бакрадзе; древнегреческие надписи Кавказа собрал и издал И.В. Помяловский; Н.Ф. Мурзакевич, один из ведущих специалистов по археологии античного Причерноморья, посвятил своё исследование древнему храму в Пицунде; укрепления и надписи Дербента обследовал А.В. Комаров.
(177/178)
Собственно археологические исследования стремились охватить максимальный хронологический диапазон. Разведочные работы по обследованию кавказских пещер провёл И.С. Поляков (правда, существенных результатов в выявлении памятников каменного века при этих первых попытках добиться не удалось, однако для более поздних периодов, начиная с эпохи бронзы, были сделаны принципиально важные открытия).
Особенно результативными оказались раскопки могильников, осуществлённые в период подготовки съезда, а в ряде случаев продолженные впоследствии В.Б. Антоновичем, А.С. Уваровым, Ф.С. Байерном, Г.Д. Филимоновым, П.С. Уваровой. Крупнейшим событием стали раскопки открытого в 1869 г. Кобанского могильника, осуществлённые в 1878-1879 гг. под руководством В.Б. Антоновича. В западноевропейскую науку эти материалы в 1883 г. ввёл Р. Вирхов. Кобанская культура поздней бронзы — раннего железного века (XI-IV вв. до н.э.), представленная исключительно богатыми и выразительными материалами (бронзовые топоры «кобанского типа», пояса с железной инкрустацией, фибулы, браслеты), связанная с высокоразвитыми культурами Передней Азии, а на поздних фазах — со скифскими и гальштаттскими племенами Восточной и Южной Европы, впервые позволяла оценить культурно-историческую роль Кавказа на заре европейской цивилизации.
В окрестностях Армавира (урартской крепости Аргиштихинили) А.С. Уваров, А.Д. Ерицов и П.С. Уварова открыли несколько разновременных могильников — древнейшие их материалы относились к эпохе ранней бронзы. Разведочными траншеями на армавирском холме были вскрыты базальтовые кладки урартских построек, не получившие, правда, правильной интерпретации: эти впервые обнаруженные памятники А.С. Уваров сравнил с произведениями армянского зодчества IV в. н.э.
Систематическим исследованиям был подвергнут обнаруженный ещё в 1850 г. могильник Редкин-лагерь близ Дилижана; раскопки Ф.С. Байерна, Г.Д. Филимонова, а позднее П.С. Уваровой, наряду с погребениями эпохи поздней бронзы — раннего железа, дали и выразительные материалы ахеменидского (раннеармянского) времени — V-IV вв. до н.э.
Местонахождения каменного века, известные по разрозненным находкам; западно-кавказские дольмены; кобанская культура; города, могильники и надписи Урарту; раннеармянские древности; топография античной эпохи; памятники средневекового зодчества — изобилие этого материала требовало дальнейшего развёртывания исследований. С 1888 г. Московское археологическое общество стало осуществлять издание «Материалов по археологии Кавказа». Центральным местным археологическим учреждением стал Кавказский музей в Тифлисе, открытие
(178/179)
которого было приурочено ко времени V археологического съезда.
Кавказская тематика в работе V АС образовала прочное, весьма заметное ядро, вокруг которого сгруппировались разносторонние, осуществлённые к началу 1880-х годов исследования в различных регионах страны. В выступлении А.С. Кельсиева освещались результаты последних работ по изучению палеолита в Костёнках. Серия докладов и запросов была посвящена местонахождениям ледниковой и послеледниковой фауны и другим «геологическим явлениям». Книга А.С. Уварова о каменном веке России уже была завершена, но продолжение работ по выявлению палеолита являлось для него и его последователей по-прежнему одной из неотложных задач. На V АС обсуждались также новые аспекты неолитической проблематики: была доложена ставшая с той поры классической работа Д.Н. Анучина о луке и стрелах; им же поставлены вопросы об изучении «торфяниковых пород», древнейших в Европе домашних животных. Д.Я. Самоквасов выступил с исследованием взаимосвязей между скифским и славянским населением юга России. В ряде работ рассматривались археология, история и антропология гуннов, хазар, булгар. Л.К. Ивановский и H.Е. Бранденбург сообщили о результатах изучения древнерусских курганов Северо-Запада, Ижорского плато и Южного Приладожья.
Размах поставленных тем и вопросов, равно как получаемые результаты, свидетельствовали об успешном осуществлении намеченной А.С. Уваровым и его соратниками программы. По предложению Д.Я. Самоквасова, съезд принял решение присудить А.С. Уварову почётную медаль в «знак глубочайшего к нему уважения со стороны Общества и как выражение сердечной признательности со стороны членов V-го Археологического Съезда» (она была изготовлена и вручена А.С. Уварову в октябре 1882 г.).
Успех уваровской программы был обусловлен привлечением к её выполнению широких сил научной, в основных своих настроениях той поры — демократической интеллигенции. Люди, осуществлявшие напряженные, трудоёмкие и целенаправленные исследования 1870-х годов были не только высококвалифицированными, но и добросовестными специалистами. В условиях пореформенной России, предшествовавших обострению новой революционной ситуации, большое значение для успеха научной деятельности имели либерально-демократические устремления, охватившие наиболее деятельные и мыслящие слои русской интеллигенции. Задачи научного исследования осознавались как неотъемлемая составная часть ещё более важного общего дела — широкого культурного строительства, отвечавшего условиям нового времени. Не случайно среди тем, обсуждавшихся на V АС в Тифлисе, была выдвинута и задача созда-
(179/180)
ния для горских бесписьменных языков местных алфавитов (на русской основе), — задача, решённая только в годы Советской власти. Посвящая этой проблеме специальный доклад, Леонгард Петрович Загурский — один из инициаторов проекта, подчёркивал, что для развития горской письменности, просвещения, становления национальной культуры горских народов необходимо первоначально подготовить массовые научно-вспомогательные кадры из горской молодёжи в помощь лингвистам-кавказоведам; создать широкую сеть школ с преподаванием на родном языке, с местной азбукой, созданной для горских народов на основе русского алфавита. Он писал: «Эти молодые люди, быть может, принесут пользу не только в деле изучения горских языков: по всей вероятности, рано или поздно будет осознана необходимость учреждения школ и для горцев. Тогда на долю молодых людей — помощников исследователей горских языков — выпадет завидная роль быть первыми распространителями среди своих соотечественников образования, долженствующего связать их тесными нравственными узами с обширным отечеством, и сделать то, чего до сих пор не смогли сделать ни штыки, ни ссылки». [47] Эпоха ссылок и штыков, покорения Кавказа и подавления восстаний, процессов над народниками и революционными демократами мыслилась почти уже в прошлом. Просвещение, основанное на мирном исследовании и сотрудничестве, виделось залогом нравственного и политического единения народов Российской империи. Реальная историческая действительность оказалась чрезвычайно суровой к либерально-демократическим настроениям и устремлениям.
За полгода до открытия Тифлисского съезда, 1 марта 1881 г. взрывом народовольческой бомбы на Екатерининском канале в Петербурге был смертельно ранен император Александр II. Наступала новая пора в истории России — период беспощадного полицейского террора во всех областях жизни, время последнего напряжения сил умирающего феодального класса в обществе, вступающем в эпоху империализма. А.С. Уваров умер в первые годы царствования Александра III. Вместе с ним ушёл в прошлое значительный, насыщенный и яркий период в развитии отечественной археологии.
7. От VI к VII АС. Итоги развития «бытописательской археологии». ^
Великолепный биографический очерк жизни и деятельности А.С. Уварова, подготовленный Д.Н. Анучиным для VI Археологического съезда и доложенный в Одессе в августе 1884 г., был не просто ритуальным актом прощания учеников с учителем, но и итоговой чертой, подведённой под значительным и сложным периодом развития отечественной археологии.
(180/181)
Основные достижения «уваровского периода» истории российской археологической науки, основанного на реализации «бытописательской парадигмы», несомненно суммировала ставшая своего рода посмертным памятником монография А.С. Уварова «Археология России. Каменный период» (1881) — фундаментальное основание нового раздела науки, созданного уваровским поколением учёных, — первобытной археологии. Без отчётливых хронологических привязок и очерченной временной шкалы, но тем не менее начальные этапы доистории человечества на территории России впервые были охарактеризованы на основании каменных изделий древнего человека и, в конце концов, не отвечая на вопрос — 6 тыс. лет, 10 тыс. лет или (превышая официальные границы «библейской хронологии»), 20, 50 и более тыс. лет тому назад были изготовлены эти изделия, найденные на воронежских, полтавских или рязанских стоянках, именно с них, как и повсюду в мире, открытом для европейского культурного сознания археологами, начинался исторический процесс: памятники палеолита, неолита, а затем — эпохи металла (меди и бронзы) составили первые ступени первобытной истории России.
Для уваровского поколения, однако, характерно не только освоение основ «системы трёх веков», но и сохраняющаяся хронологическая неопределённость археологического мышления: древности словно «плавают» во времени, пока лишенном чётких хронологических ориентиров. «Бытописательская парадигма», раскрывая горизонт за горизонтом картины древней жизни, «древнего быта», создавала их, наслаивая одну на другую, и научный аппарат, позволяющий распределить древнейшую историю во времени, оставался предметом размышлений и дискуссий.
Если замысел уваровской «Археологии России» остался ограничен лишь томом, посвящённым каменному веку, то в какой-то мере задачу итогового обобщения, претендовавшего на разрешение ключевых проблем отечественной истории и опирающегося на накопленное богатство археологического, равно как письменного и лингвистического, материала, осмысленного с позиций «бытописательской археологии», очевидно, брала на себя подготовленная и изданная в течение 1870-х годов «История русской жизни с древнейших времён» (Т. 1 — 1876 г.; Т. 2 — 1879 г.) И.Е. Забелина. Уже на первых съездах Забелин зарекомендовал себя, по отношению к А.С. Уварову, как самостоятельный и авторитетный создатель «бытописательской парадигмы». Её возможности весьма внушительно демонстрировали глубокие и оригинальные исследования самого И.Е. Забелина в области истории русской культуры «Домашний быт русских царей» (1862), «Домашний быт русских цариц» (1869), неоднократно переиздававшиеся (как и многочисленные публикации по истории Москвы). Забелин прославил
(181/182)
себя и открытиями Чертомлыка и других скифских курганов, в течение длительного времени он вёл работу в Петербургской археологической комиссии и принимал самое активное участие в подготовке первых томов «Материалов по археологии России», посвящённых «древностям Геродотовой Скифии». Право на первый опыт фундаментального обобщения археологических и исторических данных о древнейшем прошлом России принадлежало Забелину бесспорно, а реализация им этого права представляла собой объективный итог и предел возможностей «бытописательской археологии».
По оценке наших современников, «Забелин одним из первых в практике русских историков широко привлёк данные археологических исследований в целях обоснования своих исторических построений». [48] Скифский рассказ Геродота, сведения которого о расположении царских гробниц скифов в курганах Поднепровья блистательно подтвердили раскопки И.Е. Забелина, стал одним из главных устоев его общей исторической концепции. Археологические данные впервые были успешно использованы для установления границ скифских земель Северного Причерноморья — «четырёхугольника Геродота». Содержавшийся в «Скифском рассказе» этнографический материал о скифах, в сопоставлении с данными археологии, привёл Забелина к выводу о том, что Геродотовы «скифы-пахари» были непосредственными предками «если не всего славянства, то именно восточной его ветви». Славянами, по мысли Забелина, были и сменившие скифов сарматы: название одного из сарматских племён — роксоланы (с ломоносовских времён сопоставлявшиеся с «россиянами») — он связывал и с названием Ростова Великого. По мнению Забелина, этот северный город, как и Суздаль, и Рязань, существовал уже в скифскую эпоху, и в таком расширительном понимании Геродотова Скифия, охватывавшая степную и лесную зону Восточной Европы, по существу отождествлялась с Киевской Русью.
Прямолинейность и жёсткость этого построения, привлекавшего внимание исследователей ещё в XVIII в., ко временам Забелина была уже достаточно архаичной. Лингвистические материалы позволяли учёным второй половины XIX в. вполне надёжно восстановить процесс формирования основных индоевропейских народов, определить для различных периодов размещение древних этносов в Европе. На страницах забелинского труда можно найти квалифицированное и достоверное изложение ранних этапов истории индо-ариев и иранцев, кельтов, италиков и греков, германцев, славян и балтов (или «литво-славянского народа», по тогдашней терминологии). [49] Принципиально последовательность выделения этих этносов, установленная лингвистами, так же, как и степень их языкового родства, и в частности достаточная дистанция, отделяющая иранцев-скифов от славян и ближайших к ним по языку летто-
(182/183)
литовских народов (балтов), за последующие сто лет не пересматривалась. С этой точки зрения историки поколения Забелина располагали уже достаточно надёжной «лингвистической канвой» древнейших исторических событий.
Сложность заключалась в своего рода «переводе» лингвистических данных на язык конкретной истории и археологии, в определении точного времени и места формирования древних этносов, отождествления языков, этнонимов и культур, т.е. в синтезе лингвистических, исторических и археологических данных. При успешном решении отдельных частных задач (подобных локализации «Геродотовой Скифии»), бытописательская археология в целом не располагала надёжными средствами для крупномасштабных исторических реконструкций. Прежде всего, она не в состоянии была определить точную временную протяжённость и динамику, хронологический диапазон историко-культурных процессов.
Для Забелина скифы и славяне были не только близкими родственниками, но и современниками (этноним «сколоты» он считал искажённым «славуты», «славяне»). Отсутствие же соответствующих сведений в письменных источниках античной эпохи возмещалось произвольным этимологизированием отдельных собственных имён, этнонимов и топонимов; примитивная наивность этих этимологий в эпоху наибольших успехов сравнительного языкознания усугублялась ещё и тем, что Забелин не владел ни древними, ни современными европейскими языками, что делало его построения особенно уязвимыми. А.А. Формозов, наиболее авторитетный исследователь истории отечественной археологии, в специальной работе, посвящённой научному наследию И.Е. Забелина, заметил: «Справедливый тезис о глубоких корнях русской культуры научно обосновать Забелин не сумел, более того, даже скомпрометировал неудачно подобранными аргументами».
А.А. Формозов точно определил причину неудачи попытки И.Е. Забелина: в его труде «явления истории, отделённые друг от друга столетиями, а то и тысячелетиями, оказывались совмещёнными во времени». [50] Хронологический аппарат относительных и абсолютных датировок, над которым напряжённо работали западноевропейские эволюционисты, ещё не был освоен, да и не принимался во внимание российскими археологами. Но тем самым не реализовывалась и главная характеристика археологического материала: его хронологическая определённость, достоверная позиция материальных фактов и явлений древней культуры в историческом времени.
Неопределённость временных позиций неизбежно вела к схематизму, упрощению и произволу исторических построений, к стремлению объединить установленные, но разрозненные факты в наглядную, хотя и умозрительную картину, заполняя отсутствующие звенья домыслами или общими соображениями
(183/184)
(«сколоты» — «славяне», вождь гуннов Аттила — «тятя» славянской государственности и т.д.).
Эти построения выглядят неудачными и наивными не только в наши дни. Так их оценили и многие современники. Однако не надо забывать, что И.Е. Забелин предпринял практически первую, пусть безуспешную, попытку соединить в мощный поток исторического познания только что добытые материалы, восходящие к самым отдалённым временам прошлого нашей страны. И попытка эта вызвала отзвуки у современников: не случайно в 1881 г. замечательный живописец В.М. Васнецов написал «Бой скифов со славянами», сталкивая на одном полотне скифских и древнерусских витязей. Намеченный Забелиным путь объединения Скифской державы и Киевской Руси в общем достаточно последователен, если принять во внимание, что ни археологи, ни историки ещё не располагали сколько-нибудь надёжными материалами о культурах и народах, заполняющих более чем тысячелетний разрыв между этими двумя этнополитическими объединениями. Позднее неоднократно предпринимались подобного рода опыты отождествления государственной традиции скифов и днепровских славян, вплоть до начала XX в., младшим современником Забелина Д.Я. Самоквасовым, в советское время — акад. Б.А. Рыбаковым. [51] Выявить несостоятельность прямолинейности этого отождествления археология могла лишь с помощью детально разработанной, основанной на строгих датировках археологических памятников и культур реконструкции культурно-исторического процесса. Решению этой задачи и была посвящена деятельность ведущих учёных следующих десятилетий истории отечественной археологии — вплоть до начала XX в.
Ко времени же появления труда И.Е. Забелина археологический материал, во всём его многообразии, представлял собой лишь лавинообразно увеличивающийся массив неорганизованных фактических данных, весьма приблизительно распределявшихся по категориальной принадлежности. Опереться непосредственно на этот массив данных в разработке исторических построений оказалось невозможным. Более того, отсутствие систематизации в археологических материалах стимулировало и нарушение строгих систематичных принципов анализа письменных и языковых источников. Поэтому в труде И.Е. Забелина оригинальные и перспективные наблюдения, такие, как включение в историю славянства народов и племён прибалтийско-полабских славян; выделение обширной зоны славянства вокруг Балтийского моря, в которую входили и словене, заселившие Приильменье; тесная связь Новгорода с международной торговлей на Балтике, — как и «скифская тема», получили искаженную трактовку. Вслед за С.А. Гедеоновым и Д.И. Иловайским, именно этих балтийских славян И.Е. Забелин отождествил с «варягами» древнерусской летописи. Как и
(184/185)
в решении «скифо-славянской проблемы», систематичному анализу языковых, письменных, а в ту пору уже и археологических данных о преимущественно скандинавской принадлежности варягов, который был осуществлён к тому времени сторонниками «норманнской теории», Забелин (как, впрочем, и Гедеонов с Иловайским) противопоставил, по словам своего современника, лишь «такие словопроизводства, которые приводили в ужас истинных филологов...». [52] Неудача в этой разработке «славяно-варяжской проблемы» тем более досадна, что И.Е. Забелин был одним из первых учёных, обративших внимание на связи Новгорода со славянами Западной Балтики, и глубокие перспективы изучения славяно-скандинавских взаимодействий на Балтийском море в VII-XI вв. всё масштабнее выступали уже в работах современников. [53]
Сам И.Е. Забелин признавался в недостаточной разработанности им и археологами его поколения именно археологического материала. Он писал: «В последнее время раскопка курганов производится с особым усердием. Добывается множество вещей самых разнообразных. Но эта самая добыча великого множества предметов начинает уже устрашать благомыслящих исследователей нашей древности, по той особенно причине, что накопленный материал и доселе почти не подвергается никакой учёной обработке. Первый приём такой обработки, по нашему мнению, должен был бы заключаться по крайней мере в том, чтобы вещи были изданы в рисунках, т.е. были бы изображены точно и подробно, с простым описанием и точным указанием их положения в гробницах при остовах покойников. Одни описания, без изображений, с какою бы точностью они не были исполнены, что вообще случается очень редко, никогда не дадут науке основательного материала. Описание как рассказ о предмете, к тому же о предмете невиданном и совсем новом, никак не может равняться изображению этого предмета. К тому же, для иных предметов очень трудно найти даже и подходящее название, так они невнятны и своеобразны. Поэтому каждый отчёт о раскопке необходимо должен бы сопровождаться изображениями всех найденных вещей, и если б всё курганное, что уже в настоящее время скопилось в общественных и частных собраниях, было изображено, то, быть может, мы уже имели бы более отчётливое понятие о том, на какой степени находилось развитие нашей страны, хотя бы только в 9 веке, в какой зависимости оно было от соседних земель, в чём проявлялась его самостоятельность и самобытность и т.д. Вообще мы имели бы тогда положительные и решительные ответы на многие вопросы и запросы самой Русской Истории».
Материал, как вполне последовательно подчёркивал далее И.Е. Забелин, требовал не только источниковедчески качественной обработки, но и систематизации: «Из расследований
(185/186)
курганов в разных местах мало-помалу открывается, что, несмотря на однородность тогдашнего убора (каковы: обручи- гривны, обручи-браслеты, ожерелья из бисера с цатами-медальонами и другими привесками и т.п.), в каждом краю бывали свои любимые прикрасы, составлявшие обычную статью убора, относительно или особой формы, или особого рода вещиц». [54] Методически верные, эти наблюдения указывали на необходимость разработки типологических исследований, определяющих для археологии; но они помещены в самом конце забелинского сочинения, в примечаниях к нему, что указывает на весьма туманные перспективы решения этих задач учёными забелинского круга.
Труд И.Е. Забелина, подводивший итоги достижениям «бытописательской археологии», продемонстрировал исчерпанность её возможностей. Его сочинение не нашло одобрения таких авторитетных специалистов, как Н.И. Костомаров, И.И. Первольф, А.А. Котляревский, А.Н. Пыпин, В.О. Ключевский, в одном из писем весьма резко отозвался о нём находившийся в вилюйской ссылке Н.Г. Чернышевский. Если неоднозначные, а в общем сдержанные отклики Д.Н. Анучина, В.В. Докучаева, К.С. Мережковского о монографии А.С. Уварова «Археология России. Каменный период» в целом отдавали должное успеху самой по себе первой попытки археологического изучения глубокого первобытного прошлого страны, то суровый приём, который встретила «История русской жизни» И.Е. Забелина, был уже шагом к осознанию необходимости сложной и целенаправленной работы, где овладение фактическим материалом археологии России дополнялось бы освоением методических приёмов работы с археологическими источниками, корректного соотнесения с данными других наук, и затем уже — включения в общую эпистему дисциплин гуманитарного комплекса, отвечающего требованиям, достигнутым к тому времени мировой наукой.
В этом контексте «общие вопросы», повторяемые уже после А.С. Уварова для участников VI Археологического съезда, были продиктованы в равной мере и неудовлетворённостью результатами, полученными в итоге «уваровского периода» развития отечественной археологии, и необходимостью решения новых проблем, возникавших по мере нарастания объема и усложнения структуры археологического знания, формирования и развития новых его разделов: вопросы о месте археологии в системе наук (Н.Я. Грот), о методологических приёмах и способах обработки исторических и археологических данных (Ф.И. Леонтович). Ответ на эти вопросы становился тем более настоятельной необходимостью, чем более, по мере непрерывного роста материалов складывающихся разделов российской археологии, намечались и новые направления исследований. Ко времени VI АС в Одессе эти направления определились
(186/187)
в ориенталистике. Так, петербургский востоковед Н.И. Веселовский ставил перед съездом вопросы об этническом составе Хазарской кочевнической державы, особенностях кочевого быта и культуры (а дальнейшим развитием темы вскоре стали и непосредственные исследования глубинных районов Средней Азии). Н.П. Кондаков, исследователь византийских и русских древностей, завершивший первое натурное изучение памятников Константинополя, на VI АС посвятил своё выступление научным задачам археологического византиноведения. И, конечно, в центре внимания археологов, собравшихся на съезд в Одессе, оставалась (как исходная и для имевшихся на это время первых научных обобщений, пусть в виде не получившей всеобщего признания попытки И.Е. Забелина, но и для антично-причерноморской археологии в целом) тема Геродотовой Скифии, проблематика и перспективы объединения письменных и археологических данных по истории античного Причерноморья.
Первобытная археология России на VI АС в Одессе 1884 г. также была представлена актуальными для наступавшего этапа развития вопросами, определявшими перспективные проблемы, такие, как принципы хронологической классификации каменных орудий, применимость эволюционной теории в типологических исследованиях, хронологические границы бронзового века (этот последний вопрос, ориентировавший именно на создание «абсолютной хронологической шкалы» первобытности, поставленный перед участниками VI АС, был включён в материалы съезда из научного наследия А.С. Уварова). В распоряжение российских археологов поступали и новые научные материалы и выводы, обобщавшие результаты исследования первобытности. По крайней мере две работы по первобытной археологии России, опубликованные в «Трудах VI АС», прочно вошли в фонд научных достижений. Первая из них — материалы раскопок близ местечка Смела на Черниговщине, размещённые строго по томсеновской схеме «трёх веков» (каменный, бронзовый, железный), подтверждающие эту схему для территории Украины и как будто свидетельствующие о достаточно глубоком усвоении общеевропейской эволюционистской парадигмы. Вторая — обзор материалов по древнейшей истории домашних животных, раскрывающий на западноевропейских и русских материалах важнейшие этапы первобытной хозяйственной деятельности. Продолжалось, казалось бы, вполне согласованное научное движение преемников А.С. Уварова; однако перспектива этого движения, если принять во внимание дальнейшее развитие событий, отношения их участников, представляющих складывающиеся научные школы, достаточно безрадостна. Автором первой из указанных работ был граф А.А. Бобринский (с 1886 г. — председатель Петербургской археологической комиссии, заметно усиливший её ав-
(187/188)
торитарно-бюрократический характер), а другой — Д.Н. Анучин (вместе с П.С. Уваровой фактически возглавивший Московское археологическое общество, учёный, по своим мировоззренческим и исследовательским данным более всего, вероятно, подходивший на роль нового лидера российской археологии). Ко времени полной публикации всех четырёх томов «Трудов VI АС» (1886-1889) Бобринский и Анучин оказались «на острие» глубокого и длительного конфликта московских и петербургских археологов, бесплодного в конечном счёте и изнурительного организационного спора между АК и МАО, в перипетиях которого угасли (или заглохли) многие перспективные начинания, и прежде всего — исследования первобытной археологии России.
Между тем «археологическая эпистема», объём и структура складывавшихся и развивавшихся разделов археологии требовали едва не в первую очередь дальнейших и согласованных усилий именно организационных. Тематика VI съезда с большим трудом вписывалась в традиционную, сложившуюся при Уварове структуру восьми отделений: I — памятники первобытные, II — памятники языческие, III — памятники классические, IV— памятники общественного и домашнего быта, V — памятники юридические, VI — памятники искусств и художеств, VII — памятники письменности и языка, VIII — памятники исторической географии и этнографии. Исторически сложившееся на основе почти тридцатилетней давности структуры РАО и МАО и развивавшееся в соответствии с приоритетами «бытописательской парадигмы», это деление, с одной стороны, обусловливало вынужденное и не слишком плодотворное соседство, а с другой — затрудняло систематизацию и обобщение непрерывно поступающих новых материалов по формирующимся разделам российской археологии.
Наиболее целенаправленно такая работа продвигалась в области классической археологии, к тому времени прочно вошедшей в состав развитой антиковедческой традиции и остававшейся в центре внимания Археологической комиссии, Эрмитажа и других научных учреждений Петербурга. Первая половина 1880-х годов отмечена качественным сдвигом в разработке источниковой базы, осуществленной В.В. Латышевым с группой сотрудников. Центральным событием здесь была подготовка «Свода античных надписей Северного Причерноморья» («Inscriptiones antiqua огае septentrionalis Ponti Euxini graecae et latinae»). I том Свода вышел в 1885 г., IV — в 1901 г. В своде были собраны все известные эпиграфические источники — надписи, вырезанные на каменных плитах, найденных в различных местах Северного Причерноморья. Синхронные отражённым в них событиям, эти тексты по своей источниковедческой значимости существенно отличались от данных письменной античной литературной традиции. Наиболее содер-
(188/189)
жательными с исторической точки зрения были государственные декреты, посвятительные надписи раскрывали специфику культовой и политической организации античного Причерноморья, надгробные тексты позволяли изучать, в частности, этнический состав населения и динамику его изменений. В Свод вошли также строительные надписи, связанные с возведением тех или иных сооружений, тексты религиозных союзов, списки победителей спортивных состязаний, манумиссии (документы об отпуске на волю рабов). В большинстве случаев в этих надписях содержались сведения о событиях, не отразившихся в сочинениях античных историков.
Одновременно с систематизацией эпиграфических материалов В.В. Латышев и его сотрудники сосредоточили в другом монументальном своде практически все сведения о Северном Причерноморье, содержавшиеся в античной литературе. Первый выпуск этого свода письменных источников «Scythica et Caucasica. Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе» увидел свет уже в 1892 г. В трёх частях первого выпуска были опубликованы фрагменты текстов древнегреческих и византийских авторов (Гекатей Милетский, Геродот, Гелланик, Псевдо-Арриан, Псевдо-Скилак, Псевдо- Скимн, Аполлоний Родосский, Аппиан, Арриан, Демосфен, Динарх, Диодор Сицилийский, Дион Хризостом, Дионисий, Евстафий, Исократ, Полибий, Полиен, Птолемей, Стефан Византийский, Феофраст, Эсхин, Афиней, Дион Кассий, Зосим), во втором — латинских (Валерий Флакк, Плиний, Помпей Трог, Помпоний Мела, Тацит, Аммиан Марцеллин, Макробий). Созданием свода «Scythica et Caucasica» по существу было завершено формирование базы письменных источников по древнейшему, античному периоду истории южных областей нашей страны.
Заметно продвинулась и систематизация других видов материала. В 1884 г. П.О. Бурачков опубликовал фундаментальный каталог монет эллинских колоний Северного Причерноморья. Данные систематизированных видов источников стали основой для углублённого исследования политической организации, государственного строя, конкретной истории причерноморских полисов. Уже в 1884 г. В.В. Латышев в изучении государственного строя Херсонеса Таврического опирался на материалы эпиграфики; три года спустя появилось его же исследование истории и государственного строя Ольвии. Таким образом, оба крупнейших древнегреческих полиса Причерноморья прочно входили в общий корпус антиковедческого исторического знания. Но исследования подобного рода нуждались прежде всего в опоре на новые археологические материалы, систематизацию и обобщение находок и памятников. Объединёнными усилиями петербургских и одесских учёных в течение 1880-х годов на русском языке были изданы посвящённые
(189/190)
древностям Крыма сочинения акад. П.С. Палласа, продолжены археологические разведки, а с 1888 г. под эгидой Археологической комиссии начались систематические раскопки Херсонеса, которыми до своей смерти (1907) руководил К.К. Костюшко-Валюжинич. Планомерное исследование центрального из греческих полисов Северного Причерноморья представляло собой новый, безусловно значительный шаг в развитии отечественной археологии. [55]
Многотомное издание «Русские древности в памятниках искусства» (предпринятое в 1889 и последующие годы И.И. Толстым и Н.П. Кондаковым) было задумано как культурно-историческая панорама, имевшая целью «представить историческое образование и развитие древнерусского искусства в точных снимках с художественных памятников русской древности и старины», именно поэтому оно открывалось сводной публикацией наиболее систематизированных «Классических древностей южной России», сосредоточивших великолепные воспроизведения античных находок Причерноморья. Именно античный материал позволял представить серии эффектных и точных изображений, таблицы с воспроизведением вещей становились важнейшей научной документацией (и это было тем важнейшим средством исследования, о котором за десять лет до кондаковского издания размышлял, подводя итоги своего собственного труда, И.Е. Забелин). Разработанность классического, античного материала в первую очередь позволяла эти требования реализовать.
Второй том «Русских древностей» (1889 г.) объединял «Древности скифо-сарматские». Как и археологическое антиковедение, скифология 1880-х годов развивалась под интенсивным воздействием смежных с археологией разделов гуманитарных наук, истории и ещё более — лингвистики. В 1887 г. вышла в свет обобщающая монография молодого и талантливого историка А.С. Лаппо-Данилевского «Скифские древности» (ЗРАО, IV). Привлекая археологический и лингвистический, а также этнографический материал, но, главным образом, на основе письменных источников, исследователь впервые в русской науке проанализировал социальную структуру скифского общества. Во многом следуя периодизации Л. Моргана, Лаппо-Данилевский определил геродотовскую Скифию как общество, построенное ещё на родо-племенных связях, хотя при этом «скифы уже не стояли на первобытной ступени развития, а стояли на рубеже варварских и цивилизованных народов, следовательно, оставляли за собой народы дикие, стоящие ниже варварских». [56] Появление этой работы знаменовало переход от преимущественно историко-географических или этнографических исследований к изучению социально-исторических процессов. И до наших дней «научные представления, лежащие в основе этой работы, и её главные выводы в значительной мере
(190/191)
соответствуют тем научным представлениям, какие и до настоящего времени имеют место в исследованиях советских учёных». [57]
Первые успешные шаги в разработке новой, социально-исторической проблематики древнейшего прошлого народов нашей страны опирались на комплексное освоение научной эпистемы именно в области скифологии. На рубеже 1870-1880-х годов скифология становится областью взаимодействия быстро развивающихся гуманитарных дисциплин, среди которых археология занимала заметное место, только лишь включаясь в формирующийся новый комплекс знаний. Накопленный объём этих знаний значительно превосходил собственно скифо-сарматскую проблематику, далеко выходил за её пределы в смежные области (включая и волновавшую Забелина сферу славяноскифских взаимоотношений). Важная роль в создании этого раздела отечественной гуманистики принадлежала одному из учеников Ф.И. Буслаева — Всеволоду Фёдоровичу Миллеру (1848-1913), языковеду, фольклористу, этнографу и археологу, профессору Московского университета, с 1881 г. возглавлявшему этнографическое отделение ОЛЕАЭ. Именно В.Ф. Миллер наиболее полно реализовал исследовательские возможности в изучении языков и культур народов Кавказа (особенно ярко эта проблематика выступила во время работы Тифлисского V АС). В основе его изысканий лежало глубокое убеждение в том, что «если когда-нибудь предвидится возможность решить хоть небольшое число запутанных вопросов о национальности разных народов, некогда сменявших друг друга в древние и средние века в необозримых равнинах южной России, то только под условием изучения этнографии Кавказа». [58] В 1881-1887 гг. увидели свет его «Осетинские этюды» — разностороннее исследование наиболее архаичного среди иранских, языка, фольклора и истории осетинского народа. Одним из важнейших результатов этих исследований был проведённый В.Ф. Миллером анализ сохранившихся в античных источниках скифских слов (имён царей и божеств). Сравнение их с материалами осетинского языка привело исследователя к выводу об иранской языковой принадлежности скифов (прежде всего осёдлых). Выводы В.Ф. Миллера, изложенные им в 1887 г. в докладе на VII АС («К вопросу о происхождении скифов»), далее разрабатывались в трудах Ф.А. Брауна, А.И. Соболевского, М.И. Ростовцева (завершенное и развёрнутое обоснование ираноязычная принадлежность скифо-сарматских племён получила уже в середине XX в. в трудах советского учёного В.И. Абаева). В последующие десятилетия на этой основе были осуществлены успешные опыты реконструкции духовной культуры скифских племён, раскрывшие познавательный потенциал археологических материалов, приобретающих совершенно новые качества источника для восстановления мифологических
(191/192)
представлений и системы ценностных ориентаций древней культуры. [59]
Принципиально верная исследовательская перспектива скифологии, основанная на иранской языковой и культурной принадлежности скифских племён, в трудах В.Ф. Миллера и его последователей позволяла наметить и новые пути изучения славяно-иранских этнокультурных взаимоотношений, качественно отличные от наивных «скифо-славянских» построений Забелина. В.Ф. Миллер был одним из первопроходцев в изучении русского фольклора, и прежде всего — былин, русского эпоса, именно в эти десятилетия вновь вошедшего в фонд отечественной культуры. Одно из первых научных изданий русских былин было осуществлено В.Ф. Миллером совместно с Н.С. Тихонравовым. Первым в отечественной фольклористике В.Ф. Миллер выявил воздействие иранского (скифо-сарматского) эпоса на сложение образов и сюжетов русских былин, а также установил определённую роль в их формировании эпоса тюркских кочевников; основой былин, однако, по мнению исследователя, были конкретные события летописной русской истории. В области русской фольклористики В.Ф. Миллер был создателем и главой «исторической школы» в изучении былевого эпоса, развитие которой в советское время наиболее полно представлено трудами акад. Б.А. Рыбакова.
Актуальные и сто лет спустя, проблемы и перспективы исследования определялись в «постуваровский период» развития российской археологии как закономерный итог действия «бытописательской парадигмы», свидетельствуя не только об исчерпанности её возможностей, но и определённых, созданных ею предпосылках дальнейшего движения. Там, где «бытописательская археология» оказывалась несостоятельной в создании собственных исторических обобщений, она предоставляла накопленный материал в распоряжение учёных, объединяющих его с данными более продвинувшихся в своём развитии смежных гуманитарных дисциплин (лингвистики, фольклористики, этнографии, антиковедения и пр.). Значительными оставались и возможности для «экстенсивного развития», археологического освоения новых, ранее не затронутых систематическими исследованиями областей. Иногда эти две линии — интенсивного взаимодействия археологии с другими дисциплинами внутри конкретных разделов культурно-исторического знания (таких, как скифология, кавказоведение, славистика и т.д.) и экстенсивного освоения новых, ранее не разрабатывавшихся разделов, пересекались, создавая неожиданный эффект быстрого, «взрывного» развития новых дисциплин. Очевидно, именно неудовлетворённость состоянием славистики, недостаточность её возможностей (в том числе археологических), ярко проявившиеся в итоговой монографии Забелина, заставили на VI Археологическом съезде поднять один из вопросов, касавшийся
(192/193)
привлечения византийских данных для изучения внутренней организации славянской общины. Автором, инициатором постановки вопроса был начинающий византинист Фёдор Иванович Успенский (1845-1928), в ту пору — преподаватель Новороссийского университета в Одессе, в дальнейшем — академик, один из организаторов советского византиноведения. Постановка вопроса, заострявшего внимание на неразработанных проблемах славистики, оказалась исключительно плодотворной для научной деятельности самого Ф.И. Успенского, рассматривавшего славистику и византиноведение как неотделимые друг от друга отрасли знания. Именно он впервые дал оценку роли в социальной жизни Византии славянской сельской общины (составившей основу налоговой и военной организации и обеспечившей стабильность империи в переходный от античного к средневековому периоду). Следствием всестороннего изучения социально-экономической структуры, политической организации, культуры Византии было развёртывание археологических изысканий. В 1890-1900-х годах Ф.И. Успенский становится одним из организаторов византийской археологии. [60] Первые шаги, однако, были предприняты ещё на исходе 1870 — начале 1880-х годов, когда результаты археологических путешествий (по Грузии, а затем по византийским провинциям и в Константинополь) выдающегося русского византиниста Н.П. Кондакова были опубликованы и обсуждены (прежде всего следует назвать подготовленную им к VI АС капитальную работу — «Византийские церкви и памятники Константинополя»). Византинистика, особенно в её археологическом аспекте, становилась важным вкладом русских учёных в развитие гуманитарных знаний. Центром изучения византийской проблематики с 1882 г. было основанное в Петербурге Православное Палестинское общество (ныне — Палестинское общество Академии наук).
Безусловно, в 1880-х годах и позднее на развитие византиноведения в России значительное влияние оказывала клерикальная историография, охранительские тенденции «государственной» школы с их откровенной идеализацией государственной власти, монархии как двигателя исторического развития, проповедью официальной народности, славянофильство, во многих аспектах эволюционировавшее в консервативную разновидность «панславизма». Однако актуальный в условиях пореформенной России интерес к аграрной истории, роли и судьбам крестьянской общины в Византии, характерные именно для русской византинистики, расширявшие научную проблематику далеко за пределы собственно национальных тем и дискуссий, выдвинули её на одно из первых мест в мировой науке того времени. На определённом этапе именно этот фактор способствовал быстрым успехам отечественного византиноведения, весьма полно проявившимся и в освоении, вовлечении в научное обра-
(193/194)
щение, и в культурно-историческом осмыслении обширного художественного, архитектурного, археологического материала. А по мере образования этого нового для русской и мировой науки фонда источников «византийской археологии» совершенно новое значение обретали актуальные и важные для археологии славяно-русской вопросы культурных связей славян с Византией.
Византийская империя, объединившая в единый культурный комплекс творческое наследие средиземноморской Европы и Малой Азии, историческими своими судьбами вызывала глубокие ассоциации с раскинувшейся на европейских и азиатских пространствах Российской империей. Вклад Востока в движение мировой истории, и прежде всего его роль в развитии истории и культуры русской, становится темой, привлекающей не только исследователей русского былевого эпоса (открывающих в нем следы воздействия иранских и тюркских традиций). На первый план выдвигалось непосредственное изучение культур и памятников народов Востока, в первую очередь — Средней Азии, включённой в состав Российского государства в 1864-1873 гг. Кафедра истории Востока Петербургского университета под руководством В.В. Григорьева организовывала всё более целенаправленные исследования по истории Золотой Орды, Туркестана, Хивинского ханства. В ноябре 1884 г. университет совместно с Археографической комиссией отправил в Среднюю Азию доцента кафедры Н.И. Веселовского, который провёл там около года. Четыре месяца он занимался раскопками на самаркандском городище Афрасиаб, провёл ряд разведочных обследований. Наиболее ценными результатами работ Н.И. Веселовского современники признали открытие на Афрасиабе эллинистических материалов, «впервые установивших факт существования в домусульманском Туркестане искусства, находившегося под влиянием греческого». [61] Однако наряду с открытием первых среднеазиатских памятников античной эпохи, исследователь уделил большое внимание великолепным самаркандским произведениям средневекового зодчества, положив начало их систематичному изучению. Эта работа, под руководством Н.И. Веселовского, завершилась только в 1905 г. изданием первого выпуска атласа архитектурных материалов «Мечети Самарканда», с появлением которого грандиозные сооружения эпохи Тимура-Тамерлана обретали в истории мировой культуры место, не уступавшее всемирно известным памятникам мусульманской архитектуры Испании.
Университетский устав 1863 г. предусматривал деление истории Востока на три специальности: историю семитических народов, историю арийских народов Азии и историю Северо-Восточной Азии. Последней В.В. Григорьев, руководивший подготовкой петербургских ориенталистов, уделял особое внимание, связывая с этим обширным регионом формирование
(194/195)
той группы языков, которую он называл «чудьской». По мере развёртывания финно-угроведческих изысканий, активизировавшихся после IV АС в Казани, в научное обращение вовлекались новые категории и группы сибирских древностей. Исследования, проведенные в 1887-1889 гг. И.Р. Аспелином, продолжили и расширили А.В. Адрианов, В.Д. Клеменц, А.О. Гейкель, H.М. Ядринцев. На среднем Енисее начались систематичные раскопки Уйбатского, Ташебинского, Джесосского и Кызылькульского чаатасов, на основании китайских источников, верно идентифицированных как погребальные памятники древних хакасов [ правильно — енисейских кыргызов. — П.А. ]. Важнейшим результатом этих работ стало открытие в бассейне Орхона тюркских рунических надписей. Впервые зафиксированные ещё в 1721 г. во время сибирского путешествия Д.Г. Мессершмидта, они были вновь открыты для науки H.М. Ядринцевым в 1889 г., а в середине 1890-х годов, после расшифровки и прочтения рунической письменности, стали источником по истории Южной Сибири. Стоит отметить, что новые сибирские материалы уже в 1890 г. получили отражение в очередном выпуске «Русских древностей» Н.И. Толстого и Н.П. Кондакова.
Достаточно активно осваивала русская археология и новые категории древностей на европейской территории страны. Показателен в этом отношении 1888 г.: раскопки, начатые Н.И. Булычевым на Мощинском городище близ Мосальска, обнаружили великолепный клад бронзовых вещей с эмалями, вместе с которыми был выявлен неизвестный ранее круг древностей середины 1 тыс. н.э. в лесной зоне (находка заняла достойное место в атласе Толстого и Кондакова). В том же году молодой преподаватель Вятской гимназии А.А. Спицын, выпускник Петербургского университета (уже обративший на себя внимание публикациями материалов по истории Вятского края), выступил в «Вятских губернских ведомостях» со статьёй «Ананьинский могильник и костеносные городища», представляющей собой первую удачную попытку характеристики одной из базовых культур раннего железного века, послужившей основой для дальнейшего развития обширного массива археологических культур финно-угорских племён. И в этом же 1888 г. раскопками окских неолитических дюнных стоянок начал свою археологическую деятельность В.А. Городцов, в ту пору офицер русской армии. Новые материалы и новые исследователи энергично входили в отечественную науку. «Постуваровский период» — 80-е годы прошлого столетия — отмечен начинаниями, реализация которых потребовала полутора-двух десятилетий.
Организационно российская археология не была готова принять и поддержать их. Не случайно инициатива в ряде случаев исходила не от археологических, а от других научных обществ (либо новооснованных, как Палестинское, или Русское
(195/196)
антропологическое общество при Петербургском университете (1888 г.), либо — уже авторитетных, как ОЛЕАЭ, или Географическое общество и др.)» но от организационно не связанных с археологической наукой. Её собственная структура лишь пассивно впитывала новые силы, средства, материалы, но при этом не подвергалась внутренним преобразованиям, способным обеспечить быстрое развитие формирующихся разделов археологического знания.
VII Археологический съезд, состоявшийся в августе 1887 г. в Ярославле под председательством И.Е. Забелина, фактического руководителя Русского исторического музея, достаточно показателен. На нем присутствовали как авторитетные, завоевавшие широкую известность учёные — Д.Н. Анучин, H.Е. Бранденбург, А.А. Иностранцев, Н.В. Покровский, так и молодые научные силы — впервые среди участников съезда мы находим А.А. Спицына и В.А. Городцова. В процессе работы съезда обсуждались самые последние и актуальные научные результаты: Н.И. Веселовский выступил с яркой характеристикой самаркандской архитектуры, В.Ф. Миллер — предложил своё решение проблемы языковой принадлежности скифов, Н.П. Кондаков — выдвинул вопрос «о восстановлении научных связей между византийской археологией и изучением русских церковных древностей». Однако единственная организационная новация, которой VII АС отличался от предшествующего — VI АС — выделение 5-го отделения: «древности церковные». Само по себе вовлечение в сферу исследовательских интересов памятников древнерусского искусства в целом соответствовало поступательному движению в изучении истории русской культуры; найденное устроителями съезда организационное решение, безусловно, оставалось далеко не достаточным для развёртывания новых исследовательских сил. Даже такие близкие к церковно-археологической тематике разделы археологии, как «классическая, византийская, западноевропейская», ограничены на VII АС рамками общего для всех них (7-го) отделения.
Ни в Москве, ни в Петербурге 1880-х годов не оказалось центра, способного координировать и направлять деятельность археологов, как это происходило на рубеже 1860-1870-х годов. И даже достигнутое при А.С. Уварове сбалансированное взаимодействие петербургского и московского центров подверглось серьёзному испытанию. В 1889 г. Археологическая комиссия получила исключительное право выдачи Открытого листа на производство раскопок. Мера, сама по себе служившая повышению качества раскопочных работ, председателем АК графом А.А. Бобринским проводилась в жизнь с резкостью и категоричной жёсткостью требований, вызвавшей возмущение московских археологов во главе с П.С. Уваровой. Руководители МАО считали себя исследователями, достаточно компе-
(196/197)
тентными, чтобы самостоятельно решать вопросы организации раскопок и оценки качества научных отчётов. Во всяком случае они отказались поставить свою деятельность под контроль недавнего выученика Петербургского университета, который «по болезни курса не кончил», как не без иронии отмечалось в одном издании МАО. Конфликт обострился: в 1889 г. ряд петербургских учёных вышел из состава Московского археологического общества, а самый авторитетный из них — Н.П. Кондаков не поддерживал отношений с московскими коллегами десять лет (до 1899 г.). [62]
Эти десять лет много значили для дальнейшего развития русской науки, и археология здесь оказалась в печальном, невыгодном положении. Организационная разобщённость 1890-х годов пришлась на период динамичного формирования новых разделов археологии, зарождения и активизации новых местных центров и сил, смены поколений исследователей, дифференциации исследовательских подходов к археологическим материалам. Внутренние трудности, которые переживала российская археология, усугублялись противоречивыми и сложными тенденциями развития всей русской культуры, вступившей в нелёгкую, переломную эпоху.
(/454)
[9] Ленин В.И. «Крестьянская реформа» и пролетарско-крестьянская революция // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 17. С. 96.
[10] Левин М.Г. Очерки по истории антропологии в России. М., 1960. С. 80-83.
[11] Залкинд Н.Г. Московская школа антропологов. М., 1974. С. 39-42.
[12] Императорский Российский исторический музей имени императора Александра III в Москве: Краткий путеводитель по музею. М., 1914. С. V-VI.
[13] Цит. по: Илларионов В.Т. К истории изучения палеолита. С. 166-167.
[14] Уваров А.С. Археология России. С. 335-341.
[15] Императорское Московское археологическое общество в первое пятидесятилетие его существования ( 1864-1914). T. II. М., 1915. С. 341.
[16] Уваров А.С. Археология России. С. 112.
[17] Формозов А.А. Начало изучения каменного века в России: Первые книги. М., 1983. С. 8-16.
[18] Уваров А.С. Археология России... С. 394.
[19] Крайнов Д.А. Хронологические рамки неолита Верхнего Поволжья // КСИА. 1978. 153. С. 61-62.
[20] Уваров А.С. Археология России... С. 330.
[21] Антропологическая выставка. T. II. М., 1879. С. 23; Т. III. С. 188.
[22] Уваров А.С. Археология России... С. 395.
[23] Ростовцев М.И. Скифия и Боспор: Критическое обозрение памятников литературных — археологических. Л., 1925. С. 178.
[24] Спасский Г.И. Боспор Киммерийский с его древностями и достопамятностями. М., 1846; Сабатье П.П. Керчь и Боспор. СПб., 1851; Кёне Б.В. Исследование об истории и древностях города Херсонеса Таврического. СПб., 1848; Григорьев В.В. Цари Боспора Киммерийского. СПб., 1851.
[25] Дунаевский М.А. Стасов // СДР. С. 321-322.
[26] Стасов В.В. Катакомба с фресками, найденная в 1872 г. близ Керчи // ОАК 1872. СПб., 1875. С. 235-239; Котляровский А.А. Обзор исследований о фресках керченской катакомбы // Древности. Тр. МАО, VI. Вып. 2. М., 1878. С. 23-26; Ростовцев М.И. Античная декоративная живопись на юге России. СПб., 1914.
[27] Ростовцев М.И. Скифия и Боспор. С. 179.
[28] Латышев В.В. Jnscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini. T. 1. СПб., 1885.
[29] Heйxapдт A.A. Скифский рассказ Геродота. С. 32-48.
[30] Браун Ф.А.: 1) Мариупольские греки // Живая старина. 1890. В.П.; 2) Разыскания в области гото-славянских отношений. СПб., 1899.
(454/455)
[31] Куник А.А. О записке Готского топарха (По поводу новых открытий о таманской Руси и крымских готах) // Записки АН. Т. 24. СПб., 1874; Васильевский В.Г. Русско-византийские отрывки. VII. Житие Иоанна Готского // ЖМНП. 1878. CXXV. С. 86-154.
[32] Григорьев В.В.: 1) О двойственности верховной власти у хазаров // ЖМНП. 1834. III. С. 279-295; 2) Обзор политической истории хазаров // Северный архив. 1835. Т. 58. С. 566-595; 3) О древних походах русов на восток // ЖМНП. 1835. V. С. 229-287. Все эти статьи перепечатаны в сборнике «Россия и Азия» (СПб., 1876).
[33] Дорн Б.А. Известия о хазарах восточного историка Табари // ЖМНП. 1844. VII; Брун Ф.К. О поселениях итальянских в Газарии // Труды I АС. T. II.
[34] Бартольд В.В. Н.И. Веселовский как исследователь Востока и историк русской науки. П., 1919. С. 340.
[35] Дьяков В.A., Mыльников А.С. Об основных этапах истории славяноведения в дореволюционной России // СДР. С. 38-42.
[36] Колесов В.В. Бодуэн де Куртене // Там же. С. 75-78.
[37] Лаптева Л.П., Никулина М.В. Будилович // Там же. С. 86-88.
[38] Куза Л.Г. Барсов // Там же. С. 61.
[39] Ивановский Л.К. Материалы для изучения курганов и жальников юго-запада Новгородской губернии // Труды II АС. СПб., 1881. Т. 2. С. 58-67.
[40] Седов В.В. Новгородские сопки // САИ Е-1-8. М., 1970. Табл. VIII.
[41] Бранденбург H.Е. Курганы южного Приладожья // МАР. 18. Спб., 1895.
[42] Бранденбург H.Е. Старая Ладога. СПб., 1896.
[43] Петренко В.П. Сопка у с. Михаила-Архангела в юго-восточном Приладожье по раскопкам H.Е. Бранденбурга в 1886 г. // КСИА. 160. 1980. С. 69-75.
[*] [В издании опечатка в номере раздела: 2 вместо 3.]
[44] Историческая записка... С. 248.
[45] Кириченко Е.И. Русская архитектура 1830-1910-х годов. М., 1978. С. 145-150.
[46] Армения и русские археологи / Под ред. X.А. Баргесяна. Ереван, 1977. С. 5-10.
[47] 47. Труды V АС. М., 1887. С. 7-610.
[49] Забелин И.Е. История русской жизни с древнейших времён. T. I. М., 1908. С. 264.
[50] Формозов А.А. Историк Москвы И. Е. Забелин. М., 1984. С. 159.
[51] Самоквасов Д.Я: 1) История русского права. Варшава, 1884. Ч. II. С. 94; 2) Северянская земля и Северяне по городищам и могилам. СПб., 1908. С. 82; Рыбаков Б.А.: 1) Геродотова Скифия. Историко-географический анализ. М., 1979. С. 195-238; 2) Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. М., 1982. С. 11-30.
[52] Цит. по: Формозов А.А. Историк Москвы... С. 163.
[53] Славяне и скандинавы. М., 1986. — См. также: Лебедев Г.С. Викинги и славяне на Балтийском море // Скандинавский сборник. 29. 1985. С. 217-221.
[54] Забелин И.Е. История... T. II. С. 383-384.
[55] Бурачков П.О. Сборник материалов для изучения искусства и монетного производства у народов, живших в древности на юге России. Ч. I. Общий каталог монет, принадлежавших эллинским колониям северного берега Чёрного моря. Одесса, 1884; Латышев В.В.: 1) Эпиграфические данные о государственном устройстве Херсонеса Таврического // ЖМНП. 1884; 2) Исследование об истории и государственном строе Ольвии. СПб., 1887; Паллас П.С.: 1) Путешествие по Крыму академика Палласа в 1793 и 1794 годах // ЗООИД. XII. I. 1881; 2) Поездка во внутренность Крыма вдоль Керченского полуострова и на остров Тамань // Там же. XIII. 1883; Бертье-
(455/456)
Делагард A.Л. Остатки древних сооружений в окрестностях Севастополя и пещерные города Крыма // Там же. XIV. 1886.
[56] Лаппо-Данилевский А.С. Скифские древности // ЗРАО. IV. 1887. С. 506.
[58] Юбилейный сборник в честь В.Ф. Миллера. М., 1900. С. VIII.
[59] Раевский Д.С. Модель мира скифской культуры. М., 1985.
[60] Курбатов Г.Л. История Византии (историография). Л., 1975. С. 113.
[61] Бартольд В.В. Н.И. Веселовский как исследователь Востока и историк русской науки // ЗВОРАО. Т. 25. 1918. Пг., 1919. С. 349.
[62] Императорское Московское археологическое общество в первое пятидесятилетие его существования (1864-1914). T. II. М., 1915. С. 381.
|