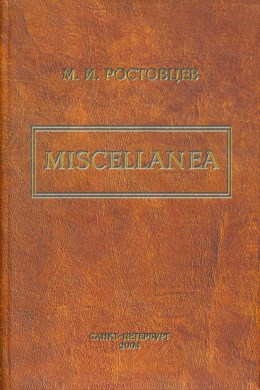 М.И. Ростовцев
М.И. Ростовцев
Miscellanea.
Из журналов Русского зарубежья (1920-1939).
// СПб: Филол. ф-т СПбГУ. 2004. 312 с. ISBN 5-8465-0128-1
Эллинский мир и вера в загробную жизнь. *
[сноска: * Вводная лекция, прочитанная весной прошлого года в Harvard Divinity School (в 1938 г. — Примеч.сост.).]
Должен сознаться, что мне нелегко говорить о предмете, который я никогда не изучал специально. Поэтому я могу предложить вашему вниманию лишь несколько соображений общего характера, основанных на моём знании ряда особо значительных явлений древней истории, главным образом истории эллинского мира. Клио — богиня с очень широким кругозором. Она, не любит точно разграниченных черт, не терпит узких подразделений. Мироощущение — вещь очень сложная. Оно определяется разнообразными элементами: политические перемены, социально-экономические условия, духовная среда и т.д. Именно с этой точки я, посвятивший значительную часть моих трудов изучению социальной и экономической истории, постараюсь очертить в общих линиях эволюцию эллинского мироощущения и указать, какое место в нём занимает вера в загробную жизнь и в бессмертие человеческой души.
Да будет мне, прежде всего, позволено разъяснить, что именно я понимаю под «эллинским миром». Эллинизм — термин расплывчатый, и ему придаётся различное значение. Я понимаю его в том смысле, какой он имеет для современной науки: нынешние историки, говоря об эллинизме, имеют в виду особый образ жизни, цивилизацию и мироощущение, пространственно ограниченные Грецией, с одной стороны, и Ближним Востоком — с другой. Этот образ жизни, эта цивилизация и это мироощущение получили особенно блестящее развитие после завоевания Востока Александром Македонским; растворились же они, во время Августа, в мировой цивилизации, созданной Римской империей.
Никто не станет, конечно, ожидать, что я коснусь в кратком обзоре всех главных идей эллинской цивилизации. Этого в нескольких словах не расскажешь. Достаточно будет, если я остановлюсь на одной из основных её черт.
В первые времена эллинской эры две крупных цивилизации Ближнего Востока встретились и мирно существовали бок о бок: это — ци-
(278/279)
вилизация греческих городов-государств и цивилизация восточных монархий. Результатом встречи не было образование какой-то новой греко-восточной цивилизации: до этого дело никогда не доходило. Однако совместное и мирное сожительство греков и восточных народов под одним и тем же режимом, в государствах одинакового типа и постоянный контакт между обеими группами вызвали и в той и в другой цивилизации глубокие, даже революционные перемены. Возникли, развились и укрепились новые формы жизни. Постепенно они распространились по всему миру, и некоторые из них существуют поныне как на Востоке, так и на Западе.
Таким образом, эллинская эра отнюдь не была периодом застоя: наоборот, её следует рассматривать как эпоху лихорадочной активности, крупных экспериментов, перестройки всех областей жизни, создания новых форм мироощущения и подготовки мира к восприятию идей, одинаково чуждых как классическому греческому миру, так и классическому Востоку. Учёные, занимающиеся историей христианства, отлично знают, насколько важно для её понимания иметь представление о формах, в которые вылилось в эллинский период древнее мироощущение.
Некоторые учёные, говоря об эллинском периоде, представляют его как нечто цельное и пытаются дать общую картину его особенностей. Я считаю подобный подход к вопросу неправильным и ведущим к неверным результатам. Эллинизм никогда не был статическим. Лик его менялся с большой быстротой. Эллинский мир III в. до Р.X. значительно разнится от эллинского мира II в., а этот последний — от эллинского мира I в. Эта быстрая смена, наблюдающаяся от одного столетия к другому и даже от одной декады к другой, является типичнейшей чертой эллинского периода. Не считаться с нею нельзя, какое бы отдельное явление эллинизма ни подвергалось изучению. Метод должен быть прежде всего историческим, т.е. хронологическим — и именно к нему я намерен прибегнуть в моём кратком обзоре.
1. Ранний эллинизм.
В конце IV в. до Р.X. греческий мир пережил глубокий кризис — политический, духовный, моральный, интеллектуальный, экономический и социальный. Вывела Грецию из этого кризиса активность двух крупных македонских царей — Филиппа II и Александра. После длительного периода опустошительных и деморализующих войн Греция зажила под властью Филиппа и Александра в полном мире. Александр дал ей, кроме мира, ещё и благосостояние: его победы на Востоке открыли перед греками новые возможности. Граждане, остававшиеся на родине, получили новые рынки, те же, кто решился эмигрировать, — новое поле политической, военной и торговой деятельности. Преждевременная смерть Александра не внесла, в сущности, много
(279/280)
изменений в это положение. Борьба, завязавшаяся между его непосредственными преемниками, не повлияла в сколько-нибудь значительной степени на единство эллинского мира, а благосостояние греков скорее возросло, чем уменьшилось. Греция продолжала верить в сохранение своей политической свободы и делала для этого грандиозное усилие.
Это положение сохранилось с некоторыми некоренными изменениями и в период т[ак] н[азываемого] равновесия власти, то есть в период консолидации и стабилизации отдельных эллинских государств, составлявших части монархии Александра. Политическая жизнь не умерла в Греции. Государства-города продолжали существовать и вели за свою свободу упорную борьбу. Несмотря на войны, почти что не прекращавшиеся, и на опустошения, ими вызванные, экономическое положение нельзя было назвать плохим. Новые восточные рынки продолжали поглощать значительные количества греческих товаров, и двери Востока по-прежнему были открыты предприимчивым грекам — воинам, купцам, ремесленникам, опытным земледельцам и т.д. В отдельных греческих монархиях шла лихорадочная деятельность: тут производился широкий политический, социальный и экономический эксперимент. В различных эллинских царствах возникали новые типы политической, социальной и экономической жизни — результат переплавки и перестройки старых восточных форм.
Часто приходится читать, что период раннего эллинизма, длившийся около 100 лет и отличавшийся непрерывной одухотворённой деятельностью, был для Греции периодом депрессии, политического индифферентизма, разочарования в идеалах и глубокого пессимизма — настолько глубокого, что он доводил многих до отчаяния и самоубийства. Нельзя отрицать, что элементы, подвергшиеся депрессии, существовали и что мы, время от времени, слышим их голос: например, в комедиях Филемона, в некоторых «характерах» Менандра и в суровых эпиграммах, дошедших до нас.
Однако из этого не следует заключить, что доминирующим настроением той эпохи были пассивность, покорность, пессимизм и отчаяние. Наоборот, господствовали живейший оптимизм, вера в неограниченные возможности человека и человеческого разума, предприимчивость, борьба за существование и за его блага. Этот дух можно встретить у всех деятелей эпохи, о которой идёт речь: у крупных генералов Александра, у их достойных преемников, строителей новых государств, у мелких тиранов малых государств и городов, у исследователей новых земель, у поэтов и учёных, у инженеров и архитекторов, у актеров и музыкантов. А за вождями стояли их помощники и сотрудники, деятельность которых проявлялась как на родине, в Греции, так и в новых странах греческого расселения.
Бесполезно цитировать длинный список имён. Антигон Одноокий и его блестящий сын Димитрий, Селевк Завоеватель, Птолемей Спаситель, Птолемей Филадельф, Филетэр Пергамский, Диодот и Эвти-
(280/281)
дем Бактрийские — всё это фигуры, хорошо знакомые всем, прочитавшим хотя бы одну книгу по истории Эллады. Сподвижники этих людей были им под стать. Таков, например, Аполлоний, альтер-эго Птолемея Филадельфа, его эконом и помощник, осуществивший огромный труд в Египте, на службе у своего патрона, и оставивший переписку со своим собственным помощником, Зеноном, Аполлоний был вторым Птолемеем, а Зенон — вторым Аполлонием. Он проявил в организации филадельфова владения в Фаюме (как бы малый Египет, с его новопостроенной столицей) такую же энергию, какую развил Птолемей в Египте и в Александрии.
До нас дошло около 100 писем Зенона — по большей части писем деловых. Тем не менее в них отражается дух тех греков, которые стремились перестроить Восток сверху донизу. В атмосфере филадельфова владения Аполлония не было, конечно, места пессимизму, — и его не потерпел бы Аполлоний среди своих служащих.
Отличным ключом к пониманию активного и оптимистического духа раннего эллинизма может служить тогдашняя философия. Старые школы Платона и Аристотеля подверглись преобразованию применительно к новым требованиям; возникли новые философские группы — стоики и эпикурейцы. И те и другие являются любопытнейшими продуктами своей эпохи. Отвлекаясь от научного исследования, они стремились прежде всего к тому, чтобы помочь человеку найти самого себя — всякому человеку, какого угодно класса и состояния. Для этого достаточно было, чтобы человек мог понять учителя, т.е. чтобы он прошёл через греческое воспитание. Как старые, так и новые школы предлагали своим последователям не философские теории, открывающие путь к спорам, не абстрактные гипотезы и предположения, а полную систему жизни, практический путеводитель, более или менее строгую догму. Отличительной и общей чертой всех этих школ был их оптимизм. Все они твёрдо верили во всемогущество человеческого разума, верили в человека и в человечество. Все они были убеждены, что полное и безмятежное счастье (eudaimonia) возможно, что осуществить его легко и что оно зависит исключительно от самого человека, от его воли и от его решений.
Перед неофитами эти школы открывали самые широкие перспективы. Эпикур, из глубины своего уединённого сада, обещал своим ученикам блаженство спокойной жизни, удовлетворяющейся малыми удовольствиями и чуждой страстям и желаниям, горю и страданию, страху и ужасу. Стоики приносили своим последователям уверенность в полном слиянии с Богом и Вселенной, уверенность в том, что они являются частью Высшего, Космического Разума, уверенность в конечном счастье, ожидающем всякого, кто идёт по правильному пути. Правильный же путь заключался в том, чтобы жить и действовать согласно законам природы, что равносильно гармонии с Высшим Разумом, т.е. с Божественным Провидением. Жизнь в соответствии с природой предусматривала суровую волю, самопо-
(281/282)
жертвование, альтруизм. Она была основана не на наслаждении, а на долге — долге по отношению к самому себе, к другому человеку, к духу и ко всему миру. А сознание долга ведёт к добродетелям в различных их формах.
То, что я сказал о стоиках и эпикурейцах, приложимо и к другим философским школам, не исключая стоиков и анархических циников. Я не могу вдаваться здесь более подробно в эту тему. Достаточно указать, что даже самые разрушительные умы того времени верили в счастье, осуществимое самим человеком, без помощи сверхъестественных сил. Эта вера диктовалась им рационалистическим, но не научным оптимизмом.
Однако философская концепция жизни была доступна не всякому. Как в прошлом, так и сейчас, она возникает в верхних кругах умственной аристократии и проникает в широкие массы только отрывками, в форме заострённых сентенций (gnomai), легко понятных и удерживающихся в памяти.
Верховным и естественным руководителем человечества была всегда не философия, а религия. Некоторые современные учёные склонны думать, что религиозное чувство переживало упадок в период раннего эллинизма. Старые боги умерли якобы с «полис»-ом, т.е. с государствами-городами, их создавшими, а новые божества ещё не народились. Это, может быть, верно в отношении некоторых атеистов, которые были, следовательно, материалистами и рационалистами. Однако таких было мало. Даже такие сугубые материалисты, как эпикурейцы, не отметали окончательно религии: они проявляли попросту малый к ней интерес и предоставляли богам жить своей безмятежной жизнью, вне какой бы то ни было связи с человечеством. Ещё менее склонны были отвергать религию стоики, несмотря на их общее материалистическое мировоззрение. Полусемитские основатели стоицизма, Зенон и Хризипп, пытались связать в своей философской системе древнюю семитскую религиозность с рационалистическими материалистическими принципами чисто греческой философии. Когда же во главе стоической школы стал стопроцентный грек, Клеант, — космический, пантеистический детерминизм стоиков мало чем отличался от вдохновенных религиозных концепций Эсхила. В моей памяти всплывает прекрасный гимн Зевесу Клеанта, одно из благороднейших выражений отвлечённого, философского, религиозного чувства, оставленных нам интеллектуальными вождями эллинизма.
Мало чем разнилось отношение к религии и крупных поэтов того времени, в частности Каллимаха и Теокрита, Арата и Аполлония. Они не были атеистами, но к богам относились не так, как Эсхил и Пиндар. Их религиозное чувство носило эстетический характер. Для них боги были прекрасными произведениями греческого гения. Их образы близки и милы человеческому сердцу, человечны сами по себе. Их обожают, но с ними разговаривают улыбаясь. Но даже для этих приверженцев новой философии боги оставались богами, а не людьми.
(282/283)
Как бы то ни было, религиозные идеи тогдашних «интеллигентов» были во всех их формах глубоко оптимистическими и бодрящими. Это обстоятельство не может, конечно, свидетельствовать об упадочных, депрессивных настроениях.
Если религия не исчезла из кругозора интеллектуальной элиты, то в жизни полуобразованных классов, а также массы, она играла ещё более значительную роль. Естественно, изменившиеся условия существования внесли перемены и в религиозные идеи того времени: возникли новые формы религиозного чувства и мышления. Религия «полис»-ов, неотделимая от самих «полис»-ов, и как бы воплощавшая их дух, не только сохранилась, но и процветала. Таковой была панэллинская религия великих олимпийцев в Дельфах, на Олимпе, в Делосе, Коринфе и т.д. Тем не менее в новом мире, направляемом личностями, культ старых богов и взаимоотношения между богами и их поклонниками приобрели более личный, более интимный характер. Любопытно отметить, например, что многие боги как бы приблизились к человеку, став Спасителями и Благодетелями, причём культ их не ограничился общиной «полис»-а, а проник в частные общества поклонников. Тут, в этих частных кружках, старые боги встретились с новыми пришельцами, греческими или эллинизированными богами и богинями, а также с иностранными, восточного происхождения.
В проявлениях глубокого, оптимистического религиозного чувства, распространённого среди греков описываемого периода, недостатка нет. Позволю себе привести несколько примеров. Когда Аполлон спас Дельфы от разрушения, грозившего им со стороны диких галатов, когда другие боги оказали аналогичную помощь другим городам Малой Азии, — эти чудеса вызвали взрыв восторженной благодарности. Несколько раньше, во время великого бедствия, пережитого афинянами, последние жаловались, что боги не приходят им на помощь, — может быть, они и вовсе не существуют... Но афиняне были спасены, и спасены не человеком, а богом. Этот новый бог был Димитрий Спаситель, прекрасный принц, в честь которого поэт написал знаменитый ityphallus, гимн, воспевавший новое воплощение божественной сущности. Этот гимн не следует рассматривать как богохульство или как «нечестие». В нём отразилось подлинное, искреннее религиозное чувство, но только в новом своём аспекте: наметившиеся тенденции вели его, путем постепенной эволюции, к созданию чистого греческого царского культа в большинстве городов эллинского мира. Великие люди, спасители и благодетели, не заменили старых богов, а как бы дополняли их; они были божественным выражением новой религиозности, новых божественных сил, присутствие которых ощутили их современники и которые действовали в «полис»-ах, создавая новые, мощные формы политической и социальной жизни.
Жизнь была в ранний эллинский период привлекательной, захватывающей и полной богатых возможностей. Однако со всех сторон грозили опасности, перемены, которых нельзя было ни предвидеть,
(283/284)
ни предотвратить. Пути сверхъестественных сил в жизни смертных казались тёмными и загадочными. Правда, человеческий разум и человеческая энергия считались важным, иногда даже решающим фактором в жизни людей; однако за ними ощущалось присутствие иррациональной, не поддающейся предвидению силы. Сила эта была божественной, в чем не могло быть сомнения, и греки называли её «Тихе, великая и таинственная вершительница человеческих судеб». Она могла принести человеку неожиданную, сказочную удачу, могла прийти на помощь человеческому разуму, но могла и погубить отдельного человека, целый город, целое государство без всякой видимой причины. Тем не менее для греков Тихе не была слепой, разрушительной, безжалостной силой: они верили в её божественную сущность и считали, что человек может снискать её благосклонность и заручиться её помощью, почитая её либо как отдельное божество, либо вместе с другими богами, ранее существовавшими. Это происходило, например, в городском и государственном культе. В Египте Птолемей Сотер, а за ним и Филадельф создали нового греческого бога, Сараписа, который являлся воплощением творческих, продуктивных сил новых государств и в то же время представлял новую форму всемогущего египетского бога Озириса — Аписа, чей культ господствовал в Мемфисе, первой египетской столице Птолемеев. Сарапис был для Египта, по-видимому, тем, чем Афина была для Афин — т.е. таинственным и величественным воплощением нового государства. В соотвествии с новыми религиозными идеями греков, это была, так сказать, Тихе птолемеевского Египта. Вскоре культ этот появился и в Египте, во владениях Птолемеев.
То же самое, но только в меньшем масштабе, происходило при Селевке в Сирии. Бриакс, великий скульптор, который, по всей вероятности, изваял для Птолемеев образ Сараписа, создал для Селевка знаменитую статую богини, воплощавшей новую столицу Селевка, Антиохию на Оронте. Подобно египетскому Сарапису, она была местным божеством, Астартой, Баалит нового города, его семитским Гадом. Однако по духу своему и замыслу она была греческой — и получила греческое имя Тихе.
В своих таинственных и увлекательных новых владениях греки, новые поселенцы старых центров цивилизованной жизни, глубоко ощущали зов Востока, особенно зов божественных сил, стоявших за всеми наиболее значительными формами восточной жизни и культуры. Конечно, греки несли в свои новые земли и своих старых богов; им они молились, им они строили храмы и алтари в своих новых городах и государствах. Однако они не забывали и богов, которые были хозяевами новых мест их жительства, богов с незнакомыми именами и странными образами. Их греки почитали часто под греческими именами. Тем не менее греки никогда не помышляли о слиянии чужих богов с их собственными: обе группы существовали в их религиозном сознании независимо друг от друга.
(284/285)
Блестящий пример греческой религиозности в конце описываемого периода можно найти на маленьком острове Тера. Здесь поселился в конце III в. до Р.X. один из ветеранов армии Филадельфа, Артемидор, уроженец анатолийского Пергама. Это был зажиточный человек, преданный своей новой родине, гордый тем, что его признали гражданином о. Тера. Этот полуинтеллигент, преисполненный религиозного рвения, типичный представитель эллинской буржуазии, истратил много денег и энергии на возведение святилища для своих богов — «теменос», наполненный алтарями и ковчегами. В этом «теменосе» мирно сожительствовали и пользовались почитанием со стороны Артемидора и его сограждан и великие олимпийцы — Зевс, Посейдон, Аполлон и великие спасители и помощники — диоскуры, и самофракийские божества, и некоторые местные герои и боги, и родная богиня пергамца Артемидора — Артемида. Тем не менее рядом с алтарями этих богов почётное место занимали алтари Птолемеев, воплощений нового политического порядка, и Тихе тоже не была забыта. Даже идеям стоиков нашлось место в религиозно-поэтической стряпне Артемидора. За свои заслуги и за своё благочестие Артемидор надеялся — ему это сказали в Дельфах — продолжать жить и после смерти, в качестве «героя-бога».
Какое место занимали в этой активной духовной деятельности мысли о загробной жизни, о существовании после смерти? Интересующий нас период характеризовался стремлением к жизни, а не к смерти. Человек — всё равно в разгаре активной деятельности или в тиши добровольного уединения — занимался главным образом вопросами о том, как надо жить и поступать, великая же проблема загробной жизни оставляла его почти равнодушным. Счастливая жизнь на земле — вот в чём заключалась главная его цель, и в этом направлении его вели философы. В материалистическом мировоззрении эпикурейцев вовсе не было места бессмертию человеческой души. Душа составляла часть тела, была материально ему подобна и после смерти разделяла его судьбу. Аналогичное отношение к вопросу о бессмертии души находим и у пифагорейцев; большие сомнения по этому поводу были высказаны лидерами перипатетиков — Дикеархом и Феофрастом. Позиция стоиков была почти такой же. Ранние стоики мало интересовались вопросом о бессмертии души, но давали ему уклончивые решения. О личном бессмертии, о воскрешении или жизни за гробом не было и речи. Для них душа была частью космического огня и после смерти возвращалась в свою стихию.
Тем не менее ранние стоики смутно допускали возможность посмертного существования человеческой души либо в течение некоторого времени, либо до общей гибели мира. Неясность стоических концепций в этой области, в сравнении с точным ответом, который дают на вопрос о бессмертии души Панеций и Посидоний, очень характерна для развития тенденций той эпохи. Одни только платоники и вместе с ними читатели ранних произведений Аристотеля, его диалогов, точно придерживались возвышенных учений великого
(285/286)
учителя о судьбах человеческой души. Но их было мало, и школа вскоре заинтересовалась единственной философской проблемой — теорией познания.
Таким образом, интеллигенты были, в общем, безразличны к тайне посмертного существования. Каковы были настроения греческого большинства: полуобразованной буржуазии, входившей в силу, и рабочих классов? Об этом мы мало знаем. До нас дошло, правда, несколько эпиграмм, частью на надгробных надписях, и несколько могильных барельефов и статуй. Они показывают, что древние, традиционные представления о загробной жизни всё ещё продолжали господствовать, весь мифологический фольклор Гомера и позднейших поэтов — Гадес, Харон и его лодка, елисейские поля, острова блаженства, наказание злодеев. Орфические или вакхические идеи встречаются редко и в туманной форме. За традиционными верованиями следуют в порядке повторяемости и точности выражения скептических, материалистических, иногда и пессимистических взглядов на загробную жизнь. Но они не стоят в необходимой связи с тогдашней философией, а скорее отражают собою горячую привязанность к жизни мужчин и женщин того времени. Некоторые говорят о ходячих идеях как мифах или выдумках (псевдос). Для других загробная жизнь есть великий мрак (skotos polys). В лучшем случае смерть рассматривалась как «блаженный сон». Выражения веры в высшие формы загробной жизни чрезвычайно редки и неясны. «Отошёл к богам», говорит одна надгробная надпись. «Ушёл в светлые области», гласит другая, свидетельствующая о влиянии стоиков. Встречаются упоминания о «вечном мире». Идея «героизации» после смерти, конечно, расцветала и крепла в связи с быстрым распространением культа живых и скончавшихся царей.
На основании столь ограниченного материала нельзя, конечно, сделать сколько-нибудь окончательных выводов. По-видимому, массы до известной степени разделяли безразличное отношение интеллигенции к идее загробной жизни.
2. Поздний эллинизм.
Великая эпоха эллинизма постепенно подходила к концу. Заканчивался героический, романтический период перестройки и творчества. Новые монархии были организованы и укреплены на долгие времена. На место экспериментирования пришла каждодневная, серая рутина. Отношения между монархиями и греческими городами-государствами стали более или менее ясными. Равным образом отношения между греками и туземцами в восточных монархиях, повидимому, установились. Казалось, что эллинский мир приближается к эпохе мирного, хотя и несколько бесцветного развития, напоминавшего развитие ранней Римской империи после бурь гражданской войны.
(286/287)
Однако эволюция пошла по иному пути. Если творческая активность иссякла, — сохранилась зато разрушительная сила. В обыденной жизни прозаики сменили романтиков, но в области политической сохранилась атмосфера бурь и потрясений. Одна война следовала за другой; воевали между собой главные монархии; областные войны сменялись местными; внутри монархий и городских государств шли междоусобные войны; туземцы подымали знамя восстания против греков. И борьба принимала всё более разрушительные формы, становилась всё более жестокой, все более деморализующей. Мало было того, что эллинские державы разрушали созданное их собственными руками: они привлекли ещё в эту истребительную игру нового участника. Тень Рима показалась на западном горизонте, и Рим стал вскоре играть активную роль в политической жизни эллинистического мира. Сначала он выступил в качестве покровителя греческой свободы, против монархий. Потом — в качестве благожелательного советника во внутренних делах эллинистических государств. Наконец, в качестве требовательного сурового хозяина греческих городов и эллинистических монархий — безразлично.
После краткого взрыва протеста против римской власти во времена Митридата и Суллы наступил решительный момент. Рим показал наконец Востоку своё истинное лицо; он твёрдо установил эгоистический, немилосердный, требовательный, доводивший до отчаяния, чисто колониальный режим. Этот режим ещё отличался той ролью, которую Восток невольно сыграл в трагедии римских гражданских войн.
Этот длинный и печальный период эллинистической истории знал немало превратностей. Взрыв радости и энтузиазма после «освобождения» Греции; временное возрождение значительной части эллинистического мира после Македонской и Сирийской войн, в середине II века до Р.X. — возрождение, прерванное печальной трагедией Ахейской войны и разрушением Коринфа; скучный период навязанного мира и относительного благосостояния некоторых частей эллинистического мира в эпоху римского владычества, в конце II и начале I в. до Р.X.; возбуждение, сопровождавшееся горьким разочарованием, в дни Митридатовых войн; и, наконец, годы неслыханных материальных и моральных страданий, крайней деморализации во времена римских гражданских войн.
Крупные политические, социальные и экономические сдвиги, происшедшие в эллинистическом мире во II и I вв. до Р.X., сопровождались соответственными переменами в греческой психологии. Расширившийся греческий мир переживал интеллектуальный, моральный и духовный кризис, подобный тому, который наблюдался в IV в. до Р.X. Правда, психологические сдвиги представляли чрезвычайно медленный процесс, который трудно проследить по нашим скудным и разбросанным источникам. Тем не менее это — факт, и притом факт, оказавший огромное влияние на ход развития древнего мира.
(287/288)
До сих пор не сделано подробного анализа эволюции греческого мировоззрения в пространстве и во времени, до сих пор не проведены разграничительные линии между отдельными фазами этого процесса. Между тем какая увлекательная работа! Так или иначе, я могу предложить вам сейчас только общий обзор.
В самом начале поздней эллинистической эры «интеллигенция» оставалась тем же, чем она была до сих пор: в большинстве своём материалистической и рационалистической. Некоторые представители её хорошо известны, например величайший историк того времени Полибий. Его умственный и духовный портрет можно обнаружить в его собственном мастерском труде. Полибий был последним представителем того научного метода в истории, начало которому положил Фукидид. Не менее типичен его современник, глава стоической школы Панеций, высокообразованный уроженец эллинского Родоса, оказавший несомненное влияние как в Греции, так и в Риме. Его мировоззрение было гораздо более материалистично и научно, чем мировоззрение его предшественников. В его философии устранена, по мере возможности, вся детерминистическая надстройка; рука об руку со своим соперником, академиком Карнеадом, он повёл борьбу не на жизнь, а на смерть против чрезмерно детерминистической и материалистической астрологии, принятой ранними стоиками в эпоху Диогена Вавилонского. Те же детерминистические и рационалистические тенденции определили его отношение к загробной жизни. Он решительно отмёл все компромиссы ранних стоиков и провозгласил, что душа смертна. В этом смысле он был союзником платоника и скептика Карнеада, который дошёл даже до отрицания бессмертия Бога.
Однако даже в этих интеллигентских кружках появилась трещина, какой-то разрыв, выражением которого было постепенное нарастание нового мировоззрения, нового понимания жизни. Весьма характерно для настроения интеллигентов I в. до Р.X., что их вождём был великий стоик Посидоний, уроженец Апамеи, приёмное дитя Родоса. Его учение было страстной реакцией против рационализма Панеция. В то время как Панеций размышлял как логик и совершенно игнорировал психологию, центр тяжести системы Посидония приходится именно на психологию, на эмоциональную, а не рациональную сторону человеческого существа. Система эта была столько же религиозной, сколь и философской. Кульминационным пунктом религиозной философии, или философской религии, Посидония было прекрасное описание, которое он даёт божественному бессмертию души. Человеческая душа является, согласно Посидонию, эманацией души вселенной. Поэтому она так же бессмертна, как вселенная. Во время своего сожительства с телом душа может оскверниться и покрыться корой, которую на ней отлагают желания, страсти и т.д. Однако (цитирую по Кюмону): «Когда душа оставляет тело, в смертный час, она становится духом, подобным множеству демонов, носящихся в атмосфере. Но судьба души бывает разная, в зависимости от её состояния. Если она отягчена материей, её
(288/289)
вес обрекает её на пребывание в плотном воздухе... в результате чего она перевоплощается в другие тела. Но если душа оказалась свободной от всякой примеси, она, благодаря своей лёгкости, тотчас подымается над тяжёлым слоем воздуха и уносится в высшие области... Некоторые избранные существа, божественные души мудрецов обладают такой чистотой, что возносятся через эфир до самых высоких астральных сфер и проводят время в созерцании звёздных красот».
Очень близки к Посидонию были неопифагорейцы, загадочная небольшая группа единомышленников, распространившая своё влияние из Египта и Малой Азии на весь эллинистический мир. Нам они известны в том виде, который приняли их представления о жизни в Риме в эпоху Цицерона.
Неопифагорейцы вовсе не были философской сектой или школой. Они не интересовались ни логикой, ни наукой. Одной из основ их учения была опять-таки вера в бессмертие души, в её божественное происхождение и в её тесную связь со звёздами. Эта доктрина — ещё один пример грандиозной революции, колоссального сдвига в мировоззрении интеллигенции II и I вв. до Р.X. Следует отметить, что эта перемена не только свидетельствует о самостоятельной эволюции греческого духа (как утверждает Виламовиц), но находится, несомненно, в связи и с сильной волной религиозного влияния, которая пошла из Вавилона и распространилась с большой быстротой на север и на запад. Действительно, космография и эсхатология Посидония совпадают с солнечным единобожием вавилоно-ассириян. Одним из результатов второго «реванша Востока» было то, что греки, а с ними весь древний мир в целом, подпали под влияние злейшего врага коренного греческого гения — астрологии.
Пока в высших кругах интеллигенции выковывалось новое представление о мире и развивалось в более широком кругу образованных людей новое религиозное мировоззрение, чем жили, во что верили миллионы полуобразованной буржуазии и рабочих, разбросанные по тысячам поселений в Греции и на Ближнем Востоке? Их жизнь была трудной и безрадостной и становилась всё труднее. Материальные невзгоды их были велики, цены были высоки, доходы всё более падали. Отсутствие безопасности в те времена было поистине ужасающе: никто, например, не мог поручиться, что он завтра не станет военнопленным или что его не захватят пираты, чтобы превратить в раба до конца его дней. Греческие города, их привычные «полис»-ы не были больше в состоянии охранять безопасность населения. Даже такие знаменитые города, как Афины и Родос, были глубоко унижены и деморализованы. Не сильнее были и гордые цари, сломленные, как тростник. Немудрено, что в такой атмосфере родился тип презренного «гречёнка» (graeculus) римских писателей: деморализированный, бесчестный, профессиональный лжец и льстец, эгоистический спекулянт и эксплуататор. И неудивительно, что под давлением нищеты и неуверенности в завтрашнем дне каждый стремился только к тому, что-
(289/290)
бы достичь хотя бы минимума благосостояния для себя и для одного, максимум двух детей. Греки начали открыто выбрасывать детей и другими путями ограничивать численность своих семей, т.е. вступили на путь систематического расового самоубийства.
Философия не могла помочь миллионам этих несчастных. Философия, учившая, что жизнь в этом мире — благо, неспособна была излечить мрачные души греков. С другой стороны, учение Посидония было слишком возвышенно и малодоступно для понимания масс. Религия была более верным прибежищем.
Как обстояло с ней дело в те времена, об этом мы мало знаем. Тем не менее кое-что выясняется. Греки не потеряли окончательно веры в своих старомодных, традиционных городских богов. И если старый «полис» умирал, то из развалин стал вырастать новый. Это был будущий «полис» Римской империи. «Муниципальная» жизнь вытесняла «политическую». «Граждане полис»-а по-прежнему были преданы своим городам и почитали своих городских богов. Как и в прошлом, они были готовы помочь городам по мере своих возможностей, приносили им дары, обеспечивали учреждения, участвовали в подписках, принимали на себя ходатайства за них. Но прежде всего они старались поднять авторитет своих богов, олицетворявших город, устраивали в их честь пышные церемонии и процессии, организовывали игры и конкурсы, строили им новые храмы. Волна традиционной религиозности прокатилась над эллинистическим миром в то самое время, когда все политические надежды греков погибли и римляне стали их признанными, но нелюбимыми хозяевами. В атмосфере временного и частичного материального возрождения греческие города самой Греции, островов и Малой Азии соперничали друг с другом в постройке новых храмов, в реставрации старых, в организации новых игр и религиозных празднеств, в оживлении старых культов. Всё это было своего рода реакцией против политического унижения, кратковременным возрождением греческого национального духа.
Однако не такими средствами можно было побороть духовный кризис и удовлетворить духовные потребности греков. Городские боги и олимпийцы, их служители и жрецы — всё это не давало ответа на тревожные вопросы. Если жизнь так печальна на земле, то нет ли надежды, что она будет иной в другом мире? Вот — естественный вопрос всех подавленных нищетой и неуверенных в завтрашнем дне. Традиционная религия не давала на него сколько-нибудь удовлетворительного ответа. Городской культ и городские жрецы им не занимались. Новые же боги были либо политическими фикциями (культ правителей), либо же безжизненными абстракциями (Тихе). Неудивительно поэтому, что греки II и I вв. до Р.X., принимая участие в официальной религиозной жизни городов и воздвигая статуи богине Тихе, искали в другом месте удовлетворения своим эмоциональным религиозным требованиям. Частные религиозные общества возникали повсюду. Члены этих обществ поклонялись разного рода божествам,
(290/291)
но преимущественно тем, которые давали немедленный ответ на «роковой вопрос». Среди них были и греческие или же окончательно эллинизированные боги, например древняя Деметра элевзийская (и элевзинских таинств) и прежде всего Дионис. Мы мало знаем о судьбе элевзинских таинств в эллинистический период. Наши источники об этом почти молчат. Элевзинские таинства могли иметь разветвления в эллинистическом мире и в Италии. Они могли оказать влияние на преобразование некоторых родственных культов в мистические религии, например древнего культа Андании в Мессении. Равным образом элевзинское влияние могло придать греческий вид культу Сараписа в Александрии. Ещё более влиятельным был культ Диониса с его экстатическим ритуалом. Мы не знаем, был ли это подлинный мистический культ во всех или в большинстве частных групп дионисовских «тиазотов» и насколько сильна была в этих группах примесь орфизма. Группы «тиазотов» во всяком случае были широко распространены по всему Египту, Сирии, Малой Азии и Греции, и их успех нельзя объяснить иначе, как тем, что они гарантировали своим членам, если не уверенность в счастье на этой земле, то по крайней мере в спасении и бессмертии души после кончины.
Так же популярны, как и дионисовские «тиазосы», были религиозные общины, поклонявшиеся иностранным богам: фракийским, анатолийским, сирийским, египетским. Мы располагаем некоторыми указаниями касательно распространенности культа Сараписа и, особенно, культа Изиды, Гадада и Атаргатис. Второй и первый века до Р.X. были эпохой рассцвета обществ, поклонявшихся этим божествам в Греции и в Малой Азии. Не подлежит никакому сомнению, что своим громадным успехом они были обязаны патетическим церемониям, которые драматизировали для верующих обещания вечной жизни и спасения души.
В то время как в греческих городах-государствах, расположенных вокруг Эгейского моря, развивались описанные выше явления духовной и религиозной жизни, в крупных эллинистических монархиях Востока, в частности в Египте и Сирии, происходили не менее значительные перемены. Ряд поколений греков сжился с новой родиной, акклиматизировался в ней физически и духовно. Новые эмигранты из Греции были малочисленны и не могли уже повлиять на психологию населения. Акклиматизация на Востоке и есть то, что мы называем ориентализацией. Греки Ближнего Востока, живя в этой атмосфере, не могли остаться тем, чем они были в первые времена своего поселения. Они сохранили свой греческий язык, свой греческий образ жизни, свою греческую внешность, но стали греками особого типа.
Они уже были религиозны, когда пришли сюда. Они принесли на Восток своих богов. В атмосфере Востока, в тяжёлых условиях жизни (немногим лучших в первый период их поселения, чем условия жизни на родине) они испытывали такую же страстную потребность в божественной поддержке, как и их сородичи в Греции и в Малой Азии.
(291/292)
Естественно, что за этой поддержкой они обратились не к богам, привезённым с собой и чуждым их новой родине, а к местным божествам, к спасителям и благодетелям, которые боролись, страдали, умерли и воскресли. Этим богам они были готовы служить под условием — знать, кто они, и быть в состоянии их понять.
С незапамятных времён греки привыкли давать иностранным богам греческие имена и молиться по-гречески. Это повторилось и тут в широком масштабе. В Египте греческий образ Сараписа подвергся обратной орентализации, а супруга Сараписа, Изида, была эллинизирована.
К ним присоединили других богов — странные божества, как гиппопотам, крокодил, ибис, шакал. При всей своей странности все они отвечали острому желанию греков обеспечить себе активную помощь и поддержку. Аналогичное явление произошло, хотя оно менее известно, и в Сирии. Местные божества были признаны греками, получили греческие имена, к ним обращались по-гречески. Однако, по существу, они оставались тем, чем были ранее. Процесс восприятия греками вавилонских и сирийских богов, который привёл в Сирии к их полной капитуляции перед семитическим солнечным единобожием, зашёл очень далеко, когда Эпифан сделал попытку сделать отсюда вывод. Эпифан вовсе не был тем бешеным эллинизатором, каким его представляет еврейская традиция и большинство современных исторических трудов. Его основной идеей было создание мощной империи, опирающейся на наиболее активную и сильную часть населения, на так называемых «эллинов», -— тех новых греков, которые составляли население старых и новых городов его империи. Одни из них были подлинно греками, другие — восточного происхождения. Для целей Эпифана это не имело значения, лишь бы быть уверенным, что все эти элементы обладали одинаковой психологией, руководились одним и тем же миропониманием и исповедывали одну и ту же религию. Его Зевс олимпийский, которому он строил храмы в главных городах своего государства, не был «Великим Зевсом». Это чаще всего был великий Господь семитского мира, небесный правитель вселенной. В таком виде его и представляют религиозные статуи, реплика статуй Сараписа в Египте.
Эпифан был прав относительно значительной части империи, но не относительно всей империи. Его политика была основана на объединении и консолидации городов и городского населения — мысль для грека вполне естественная, но он забыл про массы восточного населения, которые жили своей собственной жизнью, не знали городов и готовы были сражаться за чистоту и исключительность своей религии. Движение против него началось со стороны евреев, но мятежный дух был широко распространен и привёл к успеху парфян и к быстрому разложению царства Селевкидов.
Таким образом, религия была важным, иногда даже решающим фактором в психологии восточного населения — греков, левантинцев и туземцев — и в эволюции Ближнего Востока вообще. Изменившийся облик может быть ещё характеризован одной любопытной лич-
(292/293)
ностью из позднего, птолемеевского Египта, известной благодаря случайной находке: это как бы параллель к Зенону, управляющему Аполлония, о котором я уже упоминал. Зенон был человеком беспредельной активности, громадной энергии, пионером эллинизма, реконструктором, греком по существу. Птолемей, наш новый знакомый из второго столетия до Р.X., был сыном одного из греческих солдат, осевших в Египте, и сам «клерухом» или «катойком»; он принадлежал, следовательно, к привилегированному классу египетского населения, к «эллинам». Но какая разница между этим человеком и пионером предыдущего столетия! Зенон был строителем, человеком крепкой складки, тогда как Птолемей жил затворником в Великом Сарапеуме в Мемфисе, в качестве человека, одержимого богом, своего рода монаха. Он говорил и писал по-гречески, носил греческую одежду и сам себя называл эллином, но его психология — не греческая. Он бежит от тягот повседневной жизни, ищет на земле покоя, а в загробной жизни, конечно, спасения. Он боится активности и труда. Он — мечтатель, толкователь снов. Может быть, это случайность, что из тысяч египетских греков II в. до Р.X. мы знаем хорошо одного его. Но это характерно.
Ориентальная религиозная диаспора на Западе и религиозная ориентализация греков на Востоке, вызванные новыми условиями жизни и новыми, глубокими духовными устремлениями населения позднего эллинистического мира, суть наиболее характерные явления позднеэллинистической религиозности и мироощущения. Наряду с ними наблюдается и третье явление огромной важности: это не создание новой религии, а процесс перестройки и приспособления существовавших тогда восточных религий с целью удовлетворить религиозные нужды эллинистских мужчин и женщин на Западе и на Востоке. Я имею в виду превращение некоторых восточных и полувосточных религий и культов в мистические религии, основанные на идее посвященния, очищения, искупления и спасения, посмертной жизни, воскресения. Восточные мистические религии сравнительно хорошо известны по отношению к времени Римской империи. Никто не станет отрицать влияния, которое они оказали на духовное развитие Римской империи: Изида, Великая Мать, Богиня Сириа, Адонис, Сабаций, Митра, Юпитер Долихен, Ярибол — Непобедимое Солнце — всё это фигуры, знакомые всем, изучавшим историю Римской империи и христианства. Их восточное происхождение очевидно, равно как и их греческий облик. Но их ранняя история — тайна. Являются ли они созданиями Римской империи? Превратились ли они в религии спасения, посвящения, мистического ритуала, веры в загробную жизнь, воскресения в атмосфере Римской империи в качестве дани древнему миру со стороны экзальтированной религиозности восточных провинций империи? Или же Римская империя унаследовала их от эллинистического мира? Наши сведения скудны, и никакого заключения по ним сделать нельзя. Некоторые видные учёные убеждены, что три главные восточные религии, появившиеся в качестве мистических рели-
(293/294)
гий в Римской империи (культ Сараписа-Изиды, культ Великой Матери и, быть может, культ Атаргатис), стали таковыми в ранний эллинистический период, в руках их создателей, царей Египта, Пергама и, возможно, Сирии. Я очень в этом сомневаюсь. Правда, что элевзианец Тимофей и египетский жрец Манетон организовали церемонии культа Сараписа, и возможно, что тот же Тимофей принимал участие в эллинизации культа Аттиса в Пергаме. Но были ли введённые им церемонии мистическими? Создал ли Тимофей мистическую религию? Культ Сараписа был государственной религией. Его египетская аналогия — религия Озириса — никогда не носила мистического характера. Зачем было бы Птолемею Сотеру организовать свою государственную религию в форме культа, доступного лишь узкому кружку посвящённых? То же относится и к культу Аттиса и Атаргатис.
По моему мнению, можно считать, что восточные религии были превращены в мистические религии самими греками, в некоторых случаях полугреками, но никак не восточными людьми. Это было сделано, очевидно, по образцу элевзинских, орфических и неопифагорейских таинств, причём реформа предназначалась для небольшого круга почитателей. Я подозреваю даже, что такое преобразование не было завершением раннего эллинистического периода, но одним из проявлений глубокого религиозного, духовного и морального кризиса II и I вв. до Р.X. Новые мистические культы приобрели свой мистический характер во II в. до Р.X., и не подлежит сомнению, что они получили особое влияние в бедственный период I в. В конце этого периода они уже были готовы к завоеванию Запада. Кто были инициаторы этого преобразования, какое было их общественное положение, где они жили, нам неизвестно. В частичном случае культа Митры это могли быть полугреческие маги, обслуживавшие потребность полугреческих членов одного или нескольких частных «тиазов».
Мистические культы должны были пользоваться огромным успехом. Они предлагали всем чающим спасения привлекательное, таинственное, но в то же время простое решение большей части великих проблем, стоявших на очереди, и, прежде всего, вопроса о загробной жизни. Они не устанавливали никаких социальных и национальных ограничений и отличались значительной широтой взглядов. Их религиозные концепции оставляли много места всем главным духовным течениям того времени: отрывкам греческой философии, египетскому гнозису, астрологии, магии. Они были подлинно детищем поздней эллинистической психологии и были готовы к завоеванию умиравшего эллинистического мира.
В этой атмосфере религиозного возбуждения и ожиданий откровения и тайны, в Палестине, в образе христианской религии, появились последние отклики эллинистического миропонимания. Я не считаю себя компетентным говорить о развитии христианства, о той доле, которая в нём приходится грекам и восточному миру. Я могу только мельком осветить этот вопрос в связи с главным моим трудом. Од-
(294/295)
ним из самих поразительных открытий, сделанных нами во время раскопок в Дура-Европос, небольшом эллинистическом городе на реке Евфрате, была христианская церковь с её крещальней. Живопись этой крещальни восходит к временам очень раннего христианства. Главные темы её — грех и искупление, вера и милосердие, но всё значение её сконцентрировано в главной композиции, в доминирующем мотиве хорошо уравновешенного изображения — воскресения Христа.
|