|
Разделы археологии к 1890 г. |
|
Отделения VIII АС. |
1. Первобытная: каменный век (представлен монографией А.С. Уварова, новыми открытиями — в Сибири — Афонтова гора, 1884 г., и пр.). |
|
1. Древности первобытные (без разделения по эпохам и регионам). |
2. Первобытная: медный и бронзовый век (фатьяновские памятники, «окрашенные костяки»). |
|
2. Древности историко-географические и этнографические. |
3. Первобытная: железный век (ананьинские и дьяковские памятники, мощинские находки и пр.). |
|
3. Памятники искусств и художеств. |
4. Классическая археология (полисы и некрополи Северного Причерноморья, раскопки Херсонеса). |
|
4. Русский быт — домашний, юридический, общественный. |
|
|
|
5. Скифо-сарматская археология (проблематика «Геродотовой Скифии», древности сарматов). |
|
5. Памятники церковные. |
6. Византийская археология (памятники Константинополя, Малой Азии, связанные с ними культурно-исторически памятники Закавказья). |
|
6. Памятники славяно-русского языка и письма. |
7. Славяно-русская археология (курганные массивы центральной России, Белоруссии, Северо-Запада, памятники древнерусских городов). |
|
7. Древности классические, славяно-византийские и западноевропейские (включая и первобытную археологию Западной Европы!). |
8. Восточная археология (начальный этап позволял ограничиться выделением по региональному принципу). |
|
8. Древности восточные и языческие. |
9. Сибирская археология (и здесь региональное выделение было необходимым этапом перед тематико-хронологической дифференциацией исследований). |
|
9. Памятники археографии. |
Разрыв между реальным содержанием научного процесса и формой, которую ему стремился придать очередной Археологический съезд, давно оставил позади тот рубеж, который следовало признать критическим. Важно было осознать этот разрыв как острейшую методологическую проблему.
В первую очередь это зависело от людей, руководивших или претендовавших на руководство деятельностью российских археологов. От них требовалось объединение парадигматических представлений, организационно-методических установок, которые когда-то блистательно проявил А.С. Уваров. На новом этапе, который определил безусловный прогресс археологического знания, эта же задача стояла теперь перед его преемниками.
Ветераны уваровского поколения и их ближайшие ученики объединились вокруг вдовы А.С. Уварова, которая стала фактической преемницей своего мужа во главе созданной им научной организации, своего рода символом преемственности в её дальнейшем развитии.
Прасковья Сергеевна Уварова, урождённая княжна Щербатова (1840-1923), вышла замуж за А.С. Уварова в девятнад-
цать лет. Первый её выход в свет состоялся в 1856 г., и тогда же она произвела глубокое впечатление на молодого Льва Толстого, для которого послужила позднее прообразом Кити Щербацкой в «Анне Карениной». [83] Для П.С. Уваровой дело мужа стало важнейшим делом её жизни и, вероятно, его соратники и сотрудники по Московскому археологическому обществу, археологическим съездам, изданиям «Трудов», организации экспедиций для неё были примерно тем же, чем для толстовской героини «все эти мужики, которые каждый день приходят к нему, как будто он обязан им служить». И себя она нашла в служении этому делу, вложив в него все силы души русской женщины.
Служение означало для неё — неизменность. «Не изменять заветам» — станет знаменем её жизни, этого она потребует и на последнем, XV, АС от молодого поколения. Все свои силы, возможности, средства, энергию сплотившейся вокруг неё «дружной тесной дружины» она употребит на сохранение неизменным и неприкосновенным построенного Уваровым здания. Сам по себе VIII АС был задуман и осуществлён как своего рода памятник основателю съездов. Талантливейший из преемников А.С. Уварова Д.Н. Анучин последовательно выразил это положение в «Историческом очерке Русских археологических съездов» — одном из центральных докладов съезда.
Богатая, властная, влиятельная пятидесятилетняя графиня была достаточно избирательна в определении круга своих сотрудников: «Археология — наука людей богатых», — её изречение. В известной мере с богатством уравнивался высокий научный авторитет, освящённый сотрудничеством с А.С. Уваровым. До конца своих дней с П.С. Уваровой работали И.Е. Забелин, В.И. Сизов, Д.Я. Самоквасов; в круге её соратников Д.И. Иловайский и В.Ф. Миллер; в Петербурге, при всех сложностях, сохраняли почтительное к ней отношение H.Е. Бранденбург, Н.И. Веселовский, В.В. Суслов. Помимо поддержки этих учёных, имела значение и влиятельность Уваровой «в высших сферах», способствовавшая успеху многих московских начинаний. Так, в ходе подготовки издания «Трудов VIII АС», она уже в 1893 г. добилась выделения государственных средств на эту роскошную и дорогую публикацию, а с 1897 г. — ежегодной субсидии (5 тыс. руб.) на подготовку, проведение и публикацию материалов Археологических съездов. Впрочем, и собственные её средства шли на продолжавшееся издание монументальных «Древностей», «Материалов по археологии Кавказа», «Материалов по археологии восточных губерний», «Трудов АС», организацию экспедиций, развитие музеев. Даровитая и деятельная, она осталась такой до последних лет долгой жизни, проведённых в эмиграции на Балканах. И с каждым годом разворачивавшихся переломных десятилетий, сила и власть, воплощённые в этой, безусловно незаурядной, личности, становились властью реакционной силы, неспособной к движению и развитию.
Драма московской археологии, не российской в целом, а именно объединённых в МАО научных сил, и заключалась в том, что выработанная и господствовавшая в Москве форма организации не обеспечивала условий, необходимых для реализации сосредоточенного здесь научного потенциала. Между тем, как и во времена Уварова, он был исключительно высок, более того, к началу 90-х годов значительно вырос, воплощаясь в деятельности крупных учёных, успешно работавших в «пограничной сфере» гуманитарных и естественных дисциплин, т.е. именно там, где и следовало искать решения стоявших перед археологией методологических проблем.
Дмитрий Николаевич Анучин (1843-1923), несомненно, был одним из крупнейших русских учёных того времени, способных обеспечить быстрое и плодотворное развитие археологии во взаимодействии её с этнографией, антропологией, географией и другими естественными науками. Сын солдата Отечественной войны 1812 г., за боевые заслуги произведенного в офицеры, он в 1860 г. поступил в Петербургский университет и был участником студенческих волнений в феврале 1861 г. Его учителями на историко-филологическом факультете были Н.И. Костомаров, А.Н. Пыпин, К.Д. Кавелин. По болезни прервав занятия, Анучин (по совету С.П. Боткина) уехал за границу, где в 1861 г. занимался в Гейдельбергском университете, затем жил в Италии, Швейцарии, Франции. В 1863-1867 гг. он закончил образование на естественном факультете Московского университета. Здесь он учился у А.П. Богданова, С.А. Усова, Я.А. Борзенкова, а затем работал в московском Зоологическом саду. В 1874 г. стал членом ОЛЕАЭ, а в 1876-1878 гг., готовясь к преподавательской деятельности на учреждённой в Московском университете кафедре антропологии, два года провёл во Франции, изучал музейные коллекции, совместно с Л. Картальяком, Ж. Шантром, Г. Мортилье участвовал в исследованиях пещер Дордони, мегалитов Южной Франции, на практике осваивая новейшие достижения первобытной археологии. В 1878 г. на Всемирной выставке в Париже Д.Н. Анучин сформировал экспозицию русской части антропологического отдела, о которой Мортилье писал: «Благодаря учёным силам Москвы, Россия отлично представлена в нашем отделе и оказала существенную услугу нашей науке». [84]
В январе 1879 г. Анучин вернулся в Москву и принял деятельное участие в организации Антропологической выставки. Одновременно в «Русских ведомостях» вышла его большая программная статья, определявшая перспективы дальнейших исследований. С 1880 г. он начал читать первый в России университетский курс антропологии и возглавил созданный при Московском университете Антропологический музей. Тесно связанный с ОЛЕАЭ, музей стал вполне самостоятельным исследовательским центром первобытной археологии, которая, в рамках раз-
делившейся Анучиным парадигмы по проблематике и по материалам, во многом объединялась с палеоантропологией.
Эта взаимосвязь в рассматриваемый период была характерна для деятельности самого Д.Н. Анучина. Со свойственной ему исключительной энергией и продуктивностью Д.Н. Анучин осваивал ближайшие к этнографии, антропологии, археологии смежные разделы географической науки, разрабатывал и читал курсы общего землеведения, истории землеведения, древней географии, географии и этнографии России.
На V АС в 1881 г. он представил две блистательных работы. Первая из них — «О породах собак каменного периода на побережье Ладожского озера» — выполнена в русле естественно-исторических исследований, направленных на решение такой важной хозяйственно-исторической проблемы, как процесс одомашнивания животных. Вторая работа, позднее ставшая капитальным трудом «О древнем луке и стрелах», и по сей день остаётся фундаментальным типологическим исследованием, охватывающим ранние этапы развития этого, универсального для первобытности и средневековья Старого Света, дистанционного оружия. Автор использовал этнографические и немногочисленные, но исчерпывающим образом систематизированные археологические материалы.
Научное наследие акад. Д.Н. Анучина исчисляется более чем 1 тыс. публикаций — от обобщающих и проблемных монографий, объёмных сводов фактических данных до популярных брошюр и статей, биографических очерков, исследований по истории науки. Он явился основоположником самостоятельной географической школы Московского университета, создателем ряда новых научных направлений в озёроведении, гидрологии, геоморфологии, теории географических ландшафтов. Именно в географии сформировалась «анучинская школа», плодотворно развернувшая свою деятельность в советское время и отмеченная многими славными именами. Сам Д.Н. Анучин активно работал до последних дней, за два месяца до кончины (в марте 1923 г.) он выступал на конференции Госплана СССР с докладом по учёту производительных сил страны и первоочередным задачам изучения человека; работал над созданием первого атласа России.
В основной сфере своих научных занятий — географических исследованиях — Д.Н. Анучин последовательно и широко применял историко-сравнительный метод, что определило принципиально новый, комплексный подход к исследованию природы. В его работах по географии систематически привлекались этнографические, антропологические и археологические данные; в работах по антропологии — географические и археологические (он включал в эту науку всю совокупность естественно-исторических данных о человеке). Опираясь на дарвиновскую теорию антропогенеза в решении вопроса о происхождении рас, племён и народов, Анучин, наряду с воздействием природной среды,
учитывал влияние социальных причин. Этот подход опережал многие современные ему научные концепции, открывал глубокие исследовательские перспективы. Проблеме антропогенеза посвящена одна из первых крупных работ Д.Н. Анучина — «Антропоморфные обезьяны и низшие расы человечества» (1874). В 1912 г. в очерке «Происхождение человека и его ископаемые предки» он изложил развёрнутую концепцию, принципиально близкую современным научным представлениям.
На «пограничье» антропологии, зоологии и археологии лежала ещё одна тема, инициатором разработки которой в отечественной науке также был Д.Н. Анучин, — проблема происхождения домашних животных. В разработке её у Анучина появились ученики и продолжатели, развернувшие весь спектр проблематики — от ранних этапов истории материальной культуры до практических потребностей современного животноводства.
В комплексе дисциплин, объединяющем семейство наук от географии на одном фланге до археологии на другом, важное связующее место принадлежит этнографии. По оценке акад. Л.Я. Штернберга, «в течение почти полувека Д.Н. был высшим, всеми признанным судьёй во всех выдающихся явлениях и трудах в области этнографии». [85] Другой выдающийся современный советский этнограф С.А. Токарев считал, что в этнографии Д.Н. Анучин «создал совершенно самостоятельную школу, сумев сочетать органически три науки — антропологию, археологию и этнографию. Эта своеобразная триада наук, сохранившаяся в традициях «анучинской школы» и впоследствии, была базирована на естественнонаучном фундаменте, но сочеталась, по крайней мере у самого Анучина, с глубоко понимаемым историзмом». [86]
Историзм этнографии для Анучина прежде всего означал теснейшую связь её с археологией. Связь эта достаточно ясно реализована в его классической работе «Сани, ладья и кони как принадлежности похоронного обряда» («Древности», XIV, 1890), последовательно она проявилась и в характере его археолого-этнографических экспедиций в Дагестан, проводившихся в связи с организацией V АС в Тифлисе. Диапазон интересов Д.Н. Анучина в области археологии был исключительно широк. До последних лет он внимательно следил за всеми новыми находками, относящимися к проблеме антропогенеза; [87] в поле его зрения были исследования памятников каменного века от Сибири до Африки, в 1898 г. он выступил с развернутым анализом хронологической системы Г. Мортилье. [88] Внимание Анучина привлекла и семантика «чудских обрезков [образков]», раскрывавших перед исследователями новый мир мифологических представлений племён лесной зоны Восточной Европы; следы этих представлений он впервые выявил в курганах древнерусского населения Костромского Поволжья. [89] Одним из первых он обратился к типологии древнерусских мечей, [90] а в поисках древней Мангазеи за
Уралом на несколько десятилетий определил проблематику поисков последующих поколений археологов. Самые разнообразные археологические материалы были вовлечены Анучиным в контекст комплексных исследований, и в методическом отношении его разработки оказали глубокое воздействие на современную ему зарубежную науку и послужили прототипом подобных же (хотя уступающих по своим научно-методическим достоинствам) исследований Ратцеля и Бальфура.
Он был и одним из первых историков науки — археологии. Блистательные научно-биографические очерки Д.Н. Анучина посвящены А.С. Уварову, И.Е. Забелину, Д.Я. Самоквасову, В.И. Сизову, И.С. Полякову, так же как Г. Мортилье, Р. Вирхову, Э. Тайлору и многим другим отечественным и зарубежным учёным. Археологи заняли достойное место в персоналиях «О людях русской науки и культуры», «О людях зарубежной науки и культуры», составивших важную часть научного наследия Д.Н. Анучина. Для археологии такого рода историческое обобщение было особенно важным в период «смены парадигм», наступивший к исходу 1880-х годов, — и Д.Н. Анучин представил прекрасный опыт этого обобщения, подготовив его к открытию VIII АС в Москве.
Исключительное место занимал Д.Н. Анучин и в развитии российской археологии, что определяется его вкладом в ознакомление русской научной общественности с фундаментальными достижениями мировой науки. Он был переводчиком и издателем таких хрестоматийных обобщающих трудов, как «Доисторические времена» Дж. Лёббока, «Доисторическая жизнь» Г. и А. Мортилье, «Доисторический человек» Г. Обермайера. Благодаря этой трудоемкой и непрекращавшейся деятельности российские археологи осваивали научно-методические представления западноевропейских эволюционистов, правда, уже на «нисходящей линии» развития парадигмы эволюционизма, когда в решении конкретных исторических и общеметодических задач всё чаще возникали неразрешимые трудности. Выход из них западноевропейской наукой был найден на пути создания «этнологической парадигмы». В 1895 г. в Касселе состоялся доклад немецкого археолога Густава Коссины, излагавшего принципиальные основы новой методологии, базирующейся на тождестве «культура-этнос». Создаваемый «этнологической археологией» теоретический аппарат, где вводилось ключевое понятие «археологическая культура», позволял решать на новом уровне значительный объём исторических задач. Однако, с точки зрения более глубоких исторических перспектив, парадигма, которая постепенно формировалась в работах Д.Н. Анучина на основе исследования системного взаимодействия человека и окружающей среды, была более продуктивной (можно назвать её «экологической», поскольку именно так она реализуется в современном научном процессе). В лице
Д.H. Анучина российская археология уже не просто достигла уровня западноевропейской, как в конце деятельности А.С. Уварова, но фактически опережала её. Мировая археология вышла на эти рубежи лишь в XX столетии, и в полной мере оценить значение анучинских разработок, вероятно, мы можем лишь в наши дни, на пороге XXI в., само наступление которого зависит от уровня осознания глобальной взаимосвязанности человечества и планеты.
Планомерная реализация потенциала методологических установок Д.Н. Анучина означала бы быстрый, революционный прогресс археологии в России.
Мы знаем, что этого не произошло. «Уваровский период» развития отечественной археологии не сменился «анучинским периодом». Довольно точно можно определить, как и когда произошли события, сделавшие такое развитие невозможным, — притом, что до последнего Археологического съезда Д.Н. Анучин оставался весьма уважаемым и деятельным сотрудником П.С. Уваровой.
Кафедра антропологии Московского университета, доцентом которой Д.Н. Анучин стал в 1880 г., реакционным университетским уставом 1884 г. была упразднена. Для Д.Н. Анучина, правда, нашлось место на кафедре географии и этнографии, открытой при историко-филологическом факультете. В 1888 г. кафедра географии была переведена на физико-математический факультет. И хотя с 1891 г. Д.Н. Анучин числился профессором по этой кафедре, он не прекращал преподавания на историко-филологическом факультете. Однако развитие намеченного в его работах направления археологических исследований, основанных на «историко-географической», «экологической парадигме», становится в рамках дореволюционной гуманистики практически невозможным. Правительственные инстанции, утвердившие университетский устав 1884 г., последовательно изгоняли из стен гуманитарных факультетов какие бы то ни было направления, основанные по существу на материалистических представлениях.
Таким образом, между 1884 и 1888 гг. определился тот поворот, который сделал развитие и реализацию «экологической парадигмы» в российской археологии лишь «несостоявшейся возможностью», тем более актуальной, что в мировой географической науке развивались взгляды на комплексный, системный характер взаимодействия человека и окружающей его биологической и физической среды, которые в русской географической науке утверждал, идя к ним на основе археолого-антрополого-этнографических исследований, Д.Н. Анучин.
С 1873 по 1894 г. вышла в свет 19-томная «Всеобщая география. Земля и люди» замечательного французского географа и писателя Э. Реклю, объединившего в этом издании международный коллектив исследователей — географов, зоологов, бо-
таников, астрономов, этнографов, социологов, экономистов. «Земля и люди» Э. Реклю представляла собой вершину эволюционного подхода к изучению природы и в то же время — крупнейшее междисциплинарное теоретическое обобщение, разрешившее кризис теоретической географии конца XIX в. (вызванный быстрым развитием дифференцированных дисциплин) и заложившее основу современных системно-экологических представлений. И здесь русская наука развивалась не только параллельно с западноевропейской: среди сотрудников Э. Реклю особо следует выделить русского исследователя, выдвинувшего оригинальную и целостную историко-географическую концепцию, представлявшую собой реализацию «экологической парадигмы» в изучении древнейшего прошлого человеческой культуры — Л.И. Мечникова.
Лев Ильич Мечников (1838-1888), старший брат крупнейшего биолога И.И. Мечникова, прожил короткую и яркую жизнь. В шестнадцать лет он стал студентом медицинского факультета Харьковского университета, откуда был исключён за участие в студенческих волнениях. Переехав в Петербург, он одновременно занимался на физико-математическом факультете Университета, в Военно-медицинской академии, в Академии художеств; изучал персидский, турецкий и арабский языки. Не закончив учения, Мечников поступил на дипломатическую службу и отправился в Константинополь, Афины, Палестину, Египет. Однако карьера дипломата не увлекла его. В 1860 г. он стал офицером гарибальдийской «тысячи». В сражении при Вольтурно Мечников был тяжело ранен. С 1864 г. он жил в Женеве, сотрудничал с А.И. Герценом, М.А. Бакуниным, Н.П. Огарёвым.
«Республиканец, красный, опасный человек», как характеризовал его русский посол в донесении ещё 1860 г., [91] Л.И. Мечников в 1869 г. с официальным удостоверением корреспондента «С.-Петербургских ведомостей» направился в Испанию, где началась революция. Описания революционных событий, как и гарибальдийских походов, были даны им в форме путевых записок, сложившегося жанра описаний географических путешествий. Постепенно его интерес к географии приобретая определяющее значение, и в 1874-1876 гг., предварительно изучив японский язык (к тому времени он уже владел десятью европейскими и тремя азиатскими языками), Мечников совершил длительное путешествие в Японию, завершившееся возвращением в Женеву (через Гавайские острова и Соединённые Штаты Америки). При подготовке фундаментального труда «Японская империя» Мечников познакомился с Элизе Реклю, который привлёк его к участию в коллективной работе «Всеобщая география». С 1883 г. и до своей смерти в 1888 г. Л.И. Мечников занимал кафедру сравнительной географии и статистики в Лозаннском университете.
За эти пять лет им был создан главный труд его жизни — монография «Цивилизация и великие исторические реки. Географическая теория развития современных обществ», издание которого, после смерти своего друга и соратника, осуществил Э. Реклю. Автор рассматривал генезис четырёх великих цивилизаций древности — египетской, месопотамской, индийской и китайской — с позиций, противопоставленных «расовой теории», в которую эволюционировали основные линии «этнологической парадигмы», и упрощённым представлениям эволюционистов, развивавшимся в «социал-дарвинизм», механически переносивший законы естественного отбора и борьбы за существование в область общественной жизни. Впрочем, как отмечал переводчик труда Л.И. Мечникова, М. Гродецкий, «для изучения внутренней логики общественных отношений много сделано в последние сорок лет в особенности школой Маркса, и нельзя не пожалеть, что Л.И. Мечников оставил без внимания почти все её выводы. В конце концов... его работа приводит к тем же заключениям, к каким пришли марксисты. Но заключения его много выиграли бы в стройности и последовательности, если бы он воспользовался историческими взглядами Маркса и Энгельса для их проверки». [92] Под псевдонимом «Мих. Гродецкий» в 1899 г. из Брюсселя писал Г.В. Плеханов. [93] Отмечая недостатки периодизации Мечникова, Плеханов считал, что его труд является «замечательной работой», а после изучения её не остаётся никакого «сомнения в том, что географическая среда влияет на человека главнейшим образом через посредство возникающих под её действием экономических отношений», и настойчиво советовал ознакомиться с ней каждому образованному человеку.
Историю человечества Мечников делил на три последовательные эпохи, характеризующиеся изменениями взаимодействия человеческого общества с важнейшими компонентами природных условий.
1. Древние века, «речной период»: четыре великих цивилизации древности, существовавшие в Египте, Месопотамии, Индии и Китае, на землях, орошаемых Нилом, Тигром и Евфратом, Индом и Гангом, Янцзы и Хуанхэ.
2. Средние века, «средиземноморский период», разделяющийся на «эпоху Средиземного моря», с последовательной сменой олигархических государств Финикии, Карфагена, Греции и, наконец, Рима, и «эпоху нескольких внутренних морей», от основания Византии с подключением Чёрного моря к Средиземноморской системе до формирования «Балтийского Средиземноморья» раннего средневековья.
3. Новые века, «океанический период», выход западноевропейских государств на Атлантический океан, открытие Аме-
рики, создание глобальной системы взаимосвязей человеческих обществ и культур.
4. «Всемирно-культурная эпоха, едва только получающая своё начало», была венцом и итогом историко-культурного построения Л.И. Мечникова.
Своеобразным знаком в истории русской науки следует считать 1888 г., когда умирающий Л.И. Мечников завершал свой труд, а полный сил и энергии Д.Н. Анучин фактически был выведен за организационные рамки университетской гуманистики. Конечно, субъективные в том и другом случае обстоятельства не могли отменить логики развития научного процесса. Труд Мечникова увидел свет на русском языке в 1898 г. и 1899 г. и был переиздан в 1924 г. Прошло десятилетие после первого русского издания, и восторженный отзыв о концепции Мечникова дал В.А. Городцов в своей «Бытовой археологии» (1910), где на основе мечниковских взглядов он построил изложение мирового культурно-исторического процесса и впервые систематизировал представления о развитии первобытных и варварских археологических культур на территории России.
Однако двадцать лет, если не более, Мечников оставался типично «забытым писателем». Эти двадцать лет для российской археологии составили сложный период. Естественнонаучная проблематика и методология по существу были выведены за пределы археологической науки; проблемы систематизации непрерывно нарастающего объёма материалов приходилось осмысливать и решать в условиях своеобразной «иерархической дезорганизованности», где несогласованность и противоречия в деятельности столичных центров дополнялись и усугублялись взаимным непониманием и отторжением «стариков» уваровского поколения невидимой чертой от молодёжи. Чтобы в какой-то мере осознать происходящее, требовалось оценить и недавнее прошлое русской науки.
4. Первые обобщения прошлого археологической науки в России. Новые открытия. ^
Потребность в основательном и развёрнутом подведении итогов развития археологической науки примерно за полвека со времени основания первых научных обществ и организаций определялась не только наметившимися кризисными явлениями в деятельности Московского археологического общества. Она была вызвана к жизни самим процессом развёртывания археологических исследований, накоплением результатов, необходимостью обобщения полученного опыта для передачи его новому поколению исследователей. Именно поэтому первые такого рода обобщения сделаны были не в столичных центрах, а там,
где археология ранее всего обрела отчётливые организационные формы, — в Северном Причерноморье.
В связи с подготовкой VI АС в Одессе значительный интерес русской научной общественности вызвала деятельность основанного в 1839 г. Одесского общества истории и древностей. Профессор Новороссийского университета в Одессе В.Н. Юргевич в 1886 г. опубликовал «Краткий очерк» деятельности Общества, а в 1889 — монографию «Исторический очерк пятидесятилетия деятельности Императорского Одесского Общества истории древностей». В Новороссийском крае, необычайно богатом археологическими древностями, интерес к ним в кругах местной интеллигенции возник уже в I четверти XIX в. Здесь работали такие выдающиеся организаторы археологической науки, как И.А. Стемпковский, И.П. Бларамберг, А.И. Левшин. Опыт их работы по объединению местных коллекционеров, энтузиастов, ученых, увенчавшийся созданием в Одессе музея древностей (1825), а позднее — Общества истории и древностей, Публичной библиотеки, Новороссийского университета, имел выдающееся национальное значение. Успешное сотрудничество местных научных сил привело к определённой планомерности в археологических исследованиях, право на ведение которых по всей Южной России Общество получило со времени своего основания, что значительно ограничило активность самодеятельных и чиновных кладоискателей. Издание «Записок» с 1844 г., основание музея Общества в 1846 г. (в 1858 г. с ним был объединён городской музей древностей, а в 1883 г. было выстроено новое, сохранившееся до наших дней, здание Одесского археологического музея) определили структуру причерноморского научного археологического центра. Силами его ведущих учёных — H.Н. Мурзакевича, В.Н. Юргевича, Н.И. Надеждина, А.Л. Бертье-Делагарда, В.И. Гошкевича — были проведены обширные обследования Северного Причерноморья, раскопки в Ольвии, Феодосии, Судакской крепости, Херсонесе. Общество добилось осуществления реставрации храма VI в. в Пицунде. В то же время устойчивым и плодотворным было сотрудничество Общества со столичными научными силами, включая Археологическую комиссию. В организационном, методическом и фактографическом отношении «классическая археология» Северного Причерноморья в России к началу 1890-х годов представляла собой наиболее развитый и прочный компонент структуры археологической науки. Тесная связь с традиционной, ориентированной на классическое наследие, системой среднего и высшего гуманитарного образования обеспечивала стабильные условия для развития антиковедческих исследований, правда, в определённой мере обособляя их от смежных разделов археологии.
Значительное внимание к занимаемому археологией месту в системе гуманитарных знаний, особенно в период зарождения
организационной структуры археологической науки в России, было уделено в появившейся к 1890 г. работе «История русской этнографии» А.Н. Пыпина. Автор её, член РАО Александр Николаевич Пыпин (1833-1904), был одним из крупнейших отечественных славистов; широкую международную известность принесла ему «История славянских литератур» (СПб., 1879, 1881), переведённая на ряд языков. Ученик В.И. Григоровича и И.И. Срезневского, двоюродный брат Н.Г. Чернышевского, активный сотрудник его «Современника», А.Н. Пыпин с группой прогрессивных профессоров Петербургского университета в 1861 г. в знак протеста против реакционной правительственной политики вышел в отставку, но на протяжении многих десятилетий занимался плодотворной научной и общественной деятельностью. Член-корреспондент Академии наук с 1891, академик с 1898 г., он был автором около 1200 работ по истории славянских литератур, общественной мысли, этнографии, фольклору, археографии. [94]
Культурно-исторические взгляды А.Н. Пыпина основывались на «демократическом направлении общественных интересов», для него «защита народности в глубине своего смысла была защитой народа». Во взглядах на «будущность славянства» Пыпин последовательно отмежёвывался от консервативных идей славянофилов и панславистов, равно как и от безразличия западников. Единство славянских народов, считал Пыпин, может быть достигнуто лишь на основе их равноправия, исходным моментом которого явится «европейская цивилизация, а не странно понимаемые преданья патриархальных времён или предрассудки консервативной отсталости и обскурантизма». Историю отечественного славяноведения Пыпин рассматривал в тесной связи с историей общественного и культурного развития России.
Особое значение имел его анализ общественно-политической мысли 1830 и 1850-х годов, взаимосвязи условий зарождения первых археологических организаций с идейными течениями в дореформенной и пореформенной России. В «Истории русской этнографии» А.Н. Пыпин сосредоточил огромный фактический и биографический материал, ему принадлежали глубокие характеристики и анализ взглядов ряда деятелей русской науки того времени. Именно он дал оценку неоднозначной роли, которую сыграл в преобразовании РАО 1850-х годов И.П. Сахаров, добившийся организационного выделения «славяно-русской археологии». Объективно это способствовало её развитию, хотя основывалось на «предвзятых и посторонних науке соображениях». Плодотворность и органичность взаимодействия славяноведения с антиковедением, где на прочной методической основе вырабатывались «тонкие приёмы критического исследования», были им раскрыты при анализе археолого-этнографических трудов И.М. Снегирёва, одного из изда-
телей «Древностей Российского государства». При этом А.Н. Пыпин беспристрастно оценил и границы вклада учёных первой половины XIX столетия, резко противопоставив их монархически-официозные взгляды тем, в основе своей позитивистским, представлениям, на которых основывалась научная деятельность И.Е. Забелина и других археологов 1860-1870-х годов.
Наиболее полно связь археологии с общественным движением проявилась в начале «уваровского периода» и реализовалась в создании Московского археологического общества. Первый развёрнутый очерк его истории увидел свет в 1890 г. В основе его лежал представленный VIII АС доклад Д.Н. Анучина, развёрнутый в «Историческую записку о деятельности Императорского Московского археологического общества за первые 25 лет его существования» (М., 1890). В дальнейшем «Историческая записка» регулярно пополнялась новыми данными и превратилась в своего рода хронику деятельности МАО с обширным справочным аппаратом. Становление МАО рассматривалось Д.Н. Анучиным как вполне закономерное объединение научных сил, сформировавшихся по мере самостоятельного развития отдельных разделов исторического знания: истории России, классической археологии, востоковедения, византинистики. Создание МАО должно было, во-первых, обеспечить дальнейшее развитие взаимодействия этих дисциплин и, во-вторых, дополнить формирующийся комплекс «русской археологией», потребность в развитии которой отнюдь не удовлетворялась деятельностью РАО даже после его преобразования. Для успешного развёртывания археологических исследований необходимо было освоение достижений западноевропейской первобытной археологии, и в первые годы деятельности МАО эта задача была успешно решена. Изучение первобытности, однако, приобрело преимущественно этнографическую направленность в славяноведческих работах С.В. Котляревского, А.Н. Афанасьева, А.А. Потебни. В собственно археологических исследованиях на первый план выдвинулось развёртывание полевых работ, под эгидой МАО последовательно охвативших Московскую, Смоленскую, Ярославскую, Костромскую, Владимирскую, Нижегородскую, Тамбовскую губернии; во взаимодействии с местными археологами — западные губернии: Могилевскую, Минскую, Витебскую, Новгородскую, Псковскую; южные и, особенно широко после 1888 г., восточные, приуральско-поволжские и сибирские, где с МАО активно сотрудничали Р.Г. Игнатьев, И.Д. Черский, И.Я. Словцов, Е.Т. Соловьёв, Н.И. Витковский. Особое внимание Д.Н. Анучин уделил значению для развития российской археологии организованных А.С. Уваровым Археологических съездов. Их роль в развёртывании исследований по обширным регионам страны, становлении новых разделов археологии, консолидации науч-
ных сил и создании новых исследовательских объединений именно в его «Исторической записке» впервые получила объективную оценку.
«Историческая записка», однако, не стала программным документом, который бы определил перспективы дальнейшего развития созданной А.С. Уваровым исследовательской организации. Прежде всего она представляла собой очень добротную сводку огромного количества фактических данных по истории отечественной науки. Безусловно, многое в опыте «уваровского периода» само по себе было поучительным. И тем не менее юбилейный характер издания существенно ограничил возможности критического анализа и оценки значительной по объёму работы московских археологов. Скрупулёзное продолжение «Исторической записки» в последующие десятилетия лишь усилило её фактографическую направленность.
Русское археологическое общество в Петербурге обратилось к собственной истории в 1890-х годах, и к исходу десятилетия Н.И. Веселовским была завершена «История Императорского Русского археологического общества за первые пятьдесят лет его существования» (СПб., 1900). К решению стоявшей перед ним задачи автор подошёл с исключительной обстоятельностью, уделив внимание первым опытам коллекционирования и публикации древностей П.П. Свиньина, сибирским изысканиям Г.И. Спасского и П.А. Словцова, деятельности A.Н. Оленина и его современников. Должным образом были оценены и работы первых исследователей Причерноморья, начиная с раскопок А.П. Мельгуновым «Литого кургана» в 1763 г., где впервые был обнаружен великолепный набор ранних скифских древностей. Наряду с местными исследователями начала XIX в. И.П. Бларамбергом, П. Дюбрюксом, Н.И. Веселовский оценил значение работ П.И. Кеппена — автора первой сводки археологических памятников (1837). Весьма подробно в «Истории РАО» рассматривались вопросы охраны памятников, о которых, как констатировал Веселовский, в николаевской России «об этом едва ли кто думал серьёзно».
Беспристрастно и детально Н.И. Веселовский исследовал обстоятельства, условия, круг участников организации РАО в 1846 г. Характеристики его, порой весьма нелицеприятные, вполне объективны. При всей сложности побуждений устроителей, вполне закономерным было создание археологического общества в Петербурге, «куда по естественному ходу вещей стекаются главным образом древности со всей России». Разделение общества на три отдела — русской и славянской, восточной, древней и западной — археологии в 1851 г. позволяло постепенно сосредоточить в нём деятельность серьёзных научных сил (полные списки почётных, действительных членов и членов-корреспондентов РАО, опубликованные Веселовским, позволяют судить о постепенном изменении его состава и превраще-
нии из объединения светских дилетантов в авторитетную научную организацию). Н.И. Веселовский не переоценивал её достижений, но отдал должное таким важным начинаниям, как раскопки Л.К. Ивановского, H.Е. Бранденбурга, исследования Софийского собора в Киеве. Положительной оценки заслужила издательская деятельность петербургского Русского археологического Общества.
Как и в «Исторической записке» Д.Н. Анучина, в «Истории РАО» Н.И. Веселовского сосредоточен огромный фактографический материал, особенно по ранним этапам деятельности российских археологов в первой половине — середине XIX в. В целом это издание представляло собой впечатляющую панораму развёртывания исследовательской работы, хотя итоговая оценка её была заслуженно сдержанной. Н.И. Веселовский ясно отдавал себе отчёт в большом объёме нерешённых задач, стоявших перед российской археологией на рубеже веков. В то же время он объективно оценивал огромный исследовательский потенциал, который представляли собой древности страны, всё своеобразие её культурного наследия, сформированного тысячелетним развитием нескольких крупных и самобытных культурно-исторических комплексов. По существу все основные, известные мировой науке древние цивилизации, не исключая древневосточных, античной, византийской, исламской, наряду с самобытными культурами славян, тюрок, скифов и других народов, представленные в пределах государственной территории России, составляли уникальное культурно-историческое явление. Веселовский писал об этом: «Русскому государству досталось обладание крупными культурными центрами древнего человечества: Сибирью, Крымом, Кавказом и Закавказьем, а в последнее время — Западным Туркестаном и Закаспийской областью... Такое археологическое богатство избавляет Россию от необходимости производить археологические раскопки в чужих местностях, как это делают, за недостатком своего собственного археологического материала, другие великие государства, Франция, Германия и Англия... но оно налагает и известные обязанности. Следует ожидать, что при благоприятных условиях археология России со временем займёт первенствующее место в науке о древностях вообще». [95]
Николай Иванович Веселовский (1848-1918) сам был учёным, сделавшим очень многое для дальнейшего движения русской науки. Выпускник, а затем профессор Петербургского университета (с 1884 г.), он состоял деятельным членом РАО (возглавив в 1908 г. его Восточное отделение), Русского Географического общества, Военно-исторического общества, Археологической комиссии, в 1914 г. был избран членом-корреспондентом Академии наук. Неизменный участник Археологических съездов (с VI по XIV), Веселовский вёл обширную исследовательскую, историографическую, организационную и преподава-
тельскую работу. Помимо «Истории РАО», он был фактическим редактором «Биографического словаря» профессоров и преподавателей Петербургского университета, автором «Материалов для истории факультета восточных языков», благодаря его усилиям увидели свет труды выдающегося киргизского просветителя Чокана Валиханова. Первый курс «Первобытной археологии» в Петербургском археологическом институте также читал Н.И. Веселовский. Его лекции, изданные в 1901 и 1903 гг., стали первым учебным пособием для российских археологов. Однако подлинным памятником Н.И. Веселовскому остаются результаты его археологических раскопок. С 1889 по 1917 г., непрерывные 29 полевых кампаний представляли собой настоящий подвиг учёного, обогатившего русскую и мировую науку блистательными открытиями, сформировавшими культурно-исторический облик скифской археологии и выявившими неизвестные ранее древние культуры.
В ряду этих открытий на первом месте нужно поставить Майкопский курган, раскопанный Н.И. Веселовским в 1897 г. и давший название «майкопской культуре» эпохи бронзы (III тыс. до н.э.). Монументальная насыпь, достигавшая 11 м высоты, скрывала под собой обширную могильную яму, разделённую на три погребальных камеры, в каждой из которых находилось по «окрашенному костяку». Центральное погребение было покрыто золотыми бляшками, осыпавшимися с балдахина, который поддерживали серебряные трубки, украшенные литыми золотыми и серебряными изображениями быков. Две золотые диадемы, семнадцать золотых и серебряных сосудов (два из них — со сложными многофигурными чеканными изображениями) и другие находки из Майкопского кургана с выполненным в цвете Н.К. Рерихом планом погребения занимают по сей день почётное место в экспозиции Золотой кладовой Эрмитажа.
В курганах у станицы Царской (Новосвободной), раскопанных Веселовским в 1898 г., погребения позднего этапа «майкопской культуры» находились в каменных дольменах, перекрытых земляной насыпью. К эпохе бронзы относится ещё ряд кубанских курганов, исследованных Н.И. Веселовским. По существу, лишь после этих его открытий в Северном Причерноморье началось планомерное и все более успешное изучение степных культур бронзового века.
Особенно значителен вклад Н.И. Веселовского в изучение скифской культуры. Его раскопки обогатили науку такими выдающимися памятниками, как Келермесские курганы у станицы Костромской, Ульской, Солоха. Планомерность раскопок Веселовского высоко оценил Б.В. Фармаковский: «В общем Н.И., очевидно, стремился выяснить в археологическом отношении юго-восточную часть Европейской России, прилегающую к Азовскому морю, и области, смежные с этою частью,
т.е. ту территорию древней Скифии, которая непосредственно соприкасалась с владениями царей Боспора. План исследования Н.И. был весьма удачен: исследователю посчастливилось добыть материал, благодаря которому вся история Скифии принимает новый, более отчётливый и реальный облик, причём вырисовываются различные культурные течения, сменявшие в Скифии одно другое или составлявшие здесь в различные периоды совершенно своеобразную смесь разнородных элементов». [96] При этом каждый этап скифской культуры получил новое, яркое освещение. Келермесские и Ульские курганы VI в. содержали великолепные по сохранности жертвенные захоронения множества животных, уложенные в строгом порядке в сложных по конструкции сооружениях, которые современными исследователями реконструируются как скифские святилища. В кургане у станицы Костромской (V в. до н.э.) Веселовский открыл погребение, в деталях подтвердившее описание обряда царских погребений скифов, содержавшееся у Геродота; найденный здесь золотой олень, украшавший железный щит, стал своего рода символом скифской археологии, передававшим одну из важнейших скифских мифологем. В целом для отечественной археологии это изображение приобрело своего рода геральдическое значение. Образ солнечного «небесного зверя» в стремительном полёте с тех пор часто используется в качестве эмблемы русской науки. Столь же широкую известность приобрели его находки из Солохи, раскопки которой в 1912-1913 гг., по словам Фармаковского, «были апогеем деятельности Н.И. и её лебединой песнью». Классический тип богатого скифского захоронения IV в. определился именно после того, как Н.И. Веселовский исследовал «одно из редчайших, сохранившихся в целости, неограбленных скифских погребений». [97] Всемирной известностью пользуются находки из комплексов Солохи, прежде всего — знаменитый золотой гребень с изображениями сражающихся скифов, воспроизводящими центральные образы скифского «генеалогического мифа» в момент эпического противоборства.
Деев курган, «Огуз» и ряд других насыпей, исследованных Н.И. Веселовским, относились к эллинистической эпохе, раскрывая поздние этапы существования скифской культуры. Исключительной важности материалы дали курганы «римского времени», раскопанные им на Кубани в 1895-1900 гг. Впервые после находки «Новочеркасского клада» 1864 г. значительной серией были представлены материалы сарматских памятников, с которыми был связан новый этап взаимодействия «варварской» и античной культур, послуживший основой для эволюции своеобразного и яркого художественного стиля древностей эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья. Наконец, значительная серия раскопанных Н.И. Веселовским курганов относилась к X-XIV вв. и дала массовые образцы
произведений, характеризующих кочевнические культуры степного средневековья.
Исследуя эти памятники широчайшего хронологического диапазона, от эпохи бронзы до глубокого средневековья, как отмечал Б.В. Фармаковский, «известной системы в выборе места раскопок Н.И. держался. Вполне выдержать её он не мог именно из-за громадной массы неотложных текущих дел, которые у нас в России мешают работать систематически всем на каждом шагу... Общие результаты археологических исследований Н.И., можно сказать, колоссальны: благодаря им, открываются целые новые главы в истории культуры на почве России». [98] Напряжённая работа звала к себе новое поколение исследователей.
5. Смена поколений исследователей. ^
Н.И. Веселовский (1848-1918) в Петербурге, П.С. Уварова (1840-1923) и Д.Н. Анучин (1843-1923) в Москве были представителями поколения исследователей, деятельность которых составила основное содержание «постуваровского периода» развития отечественной археологии. Достаточно тесно в начальном этапе своей научной работы это поколение было связано с предшествующим — поколением А.С. Уварова (1828-1884) и И.Е. Забелина (1820-1909), во многих случаях сохраняя с ним непосредственные отношения «учитель — ученик». В целом, однако, собственная активность исследователей, унаследовавших в сложившемся виде организационную структуру российской археологической науки, развернулась уже после завершения, по крайней мере в наиболее существенных достижениях, деятельности строителей этой структуры. При этом они выступали не только наследниками и учениками «поколения Уварова — Забелина», но и учителями для следующего поколения научной молодёжи, не связанной прямыми контактами с основателями научных организаций и создателями «бытописательской парадигмы», но осваивающими проблематику и материал археологии в непосредственном взаимодействии с «поколением Веселовского — Анучина».
Генерационный ритм развития науки подвижен и жёстко не связан с двадцати-, тридцатилетней цикличностью биологической смены поколений. Научный потенциал Д.Н. Анучина вполне был выявлен ещё в пору сохранявшейся активности А.С. Уварова, даже в момент оформления наивысших исследовательских достижений последнего. Для Н.И. Веселовского археологическая деятельность началась уже совершенно в рамках «постуваровского периода», и в течение него возрастала её продуктивность, научное признание, что, естественно, ставило его в положение «учителя» для младших коллег, ряды которых пополнялись уже представителями следующего поколения мо-
лодых людей рождения 1850-1860-х годов. Но так же, как Анучин при жизни Уварова, это новое пополнение входило в науку, фонд материалов и идей которой активно формировали сверстники Н.И. Веселовского и Д.Н. Анучина, такие учёные, как Д.Я. Самоквасов (1843-1911), Л.К. Ивановский (1845-1892), H.Е. Бранденбург (1839-1903), Ф.И. Успенский (1845-1928) и В.Ф. Миллер (1848-1913) и др., составлявшие в российской науке (вместе со своими ближайшими предшественниками) примерно такую же «генерационную композицию», какую в западноевропейской археологии представляли тесно связанные между собой поколения, представленные именами Г. Мортилье (1821-1898) и О. Монтелиуса (1843-1921).
Сопоставление этих имён раскрывает и специфику развития российской археологии. Мортилье, создававший периодизацию палеолита, основанную на принципе технологической эволюции первобытных орудий, и Монтелиус, специализировавший этот принцип в типологический метод археологии (что позволило охватить типохронологическими периодизациями все последующие эпохи в пределах «системы трёх веков»), последовательно реализовали в первобытной археологии парадигму эволюционизма, основы которой были заложены предшествующим поколением европейских археологов, и прежде всего X. Томсеном (1788-1865). Эта парадигма основывалась на быстром прогрессе естественнонаучных знаний, характерном для становления капиталистической формации и буржуазной культуры. Русские современники Томсена в лице А.Н. Оленина (1764-1843) создавали археологию феодально-абсолютистской России, как часть дворянской культуры, опираясь на эстетику классицизма, спроецированную затем на изучение русского «народного быта», постепенно расширенного до «древнего быта» вообще. Лишь в итоге этого развития археологического знания сформировались предпосылки для освоения (исходного для западноевропейской) первобытного горизонта археологии (решение этой задачи при жизни А.С. Уварова означало преодоление разрыва в развитии русской и мировой науки, вызванного спецификой социально-экономических условий России). Однако само по себе это преодоление не означало ещё самостоятельного и полного решения всего комплекса методических задач, разрабатывавшихся в мировой науке. «Бытописательская парадигма» в русской науке заняла историческое место «эволюционистской парадигмы», но отнюдь не могла взять на себя всех её функций. Компенсировать это различие можно было только напряжённым трудом следующих поколений, и труд этот представлял собой не простое «повторение пройденного» западноевропейской наукой, а по-прежнему самостоятельный, но все более сближающийся с магистральными направлениями мирового научного процесса исследовательский путь.
«Монтелиусов у нас нет», — констатировал, оценивая плоды усилий дореволюционных поколений от лица первой генерации, советских исследователей в 1930 г., В.И. Равдоникас. [99] Констатация справедливая, но не вполне корректная. Слишком различны были социально-экономические условия, в которых действовали учёные круга Мортилье — Монтелиуса и Уварова — Анучина, разной была последовательность стоявших перед ними задач, да и возможности их решения. И если с преодолением «бытописательской парадигмы», выполнившей в целом свою функцию, российская наука в лице Д.Н. Анучина (а ещё более, может быть, Л.И. Мечникова) вышла на передовые рубежи научного поиска, на подступы к «экологической парадигме», то закрепиться на этих рубежах она, в принципе, не могла, не решив задачи создания развёрнутой культурно-исторической панорамы первобытности — от палеолитических культур до всех последующих, существовавших на территории России. Русские современники Монтелиуса должны были сначала заполнить карту страны конкретными культурами и памятниками каменного, бронзового, железного веков. Лишь после этого на повестку дня могли встать задачи установления их типохронологических, а следовательно, культурно-исторических соотношений; причём к моменту их постановки уже и в зарубежной науке осознавалась принципиальная ограниченность эволюционистских типохронологических систем. Одновременно с методом Монтелиуса, исследователи 1890-х годов осваивали и его критику, осознавали необходимость поиска иных решений. Следовательно, не «русских Монтелиусов» мы должны искать в этом поколении, а учёных, идущих уже иными путями.
Этот поиск начинался прежде всего с историко-археологической конкретики, с продолжающегося накопления материалов, заполнения исторических и региональных лакун. Именно на этом сосредоточиваются первоначальные усилия, а затем формулируются направления методических поисков в работах таких исследователей, как В.З. Завитневич (1853-1927), Е.Р. Романов (1855-1922), Э.Р. Штерн (1859-1924). Здесь открывалось широкое поле для учёных новой субгенерации, получивших от своих предшественников весьма высокую квалификацию, таких, как Н.Я. Марр (1864-1934), В.В. Бартольд (1869-1930), С.Ф. Ольденбург (1863-1934) — третий из «триады» учеников В.В. Розена, крупнейший востоковед-индианист, активизировавший археологическое изучение Центральной Азии, мира буддийских культур, пополнивших картину уникального по своей многосторонности культурно-исторического взаимодействия народов, объединённых Россией. И уже у этой субгенерации примет эстафету методологических поисков и новых историко-культурных решений следующее поколение, представителем которого был в частности, Н.К. Рерих (1874-1947), ещё располагавший возможностью непосред-
ственного контакта с такими деятелями «уваровской эпохи», как В.В. Стасов и Л.К. Ивановский.
Если искать аналоги деятельности этих учёных, то сравнивать их достижения нужно с результатами и поисками того поколения западноевропейских археологов, представителями которого были немецкий учёный Г. Коссинна (1858-1931) (создатель «этнологической парадигмы» в археологии, основанной на тождестве «культура-этнос») и француз А. Брейль (1877-1961) (один из крупнейших и авторитетнейших исследователей палеолита, первым выявивший в палеолитических общностях ту локальную специфику, которая вполне раскрывается понятием «археологическая культура»). [100] Пути поисков исторического содержания и методов его раскрытия в понятии «культура» — вот задача, к постановке которой в Западной Европе, с позиций исчерпавшей свои достижения парадигмы эволюционистов, подходили поколения Коссинны — Брейля, а в России, отталкиваясь от итогов бытописательской археологии, — поколения Веселовского — Спицына. Оценивать нужно прежде всего эффективность и перспективность этих решений, их влияние на конкретных исследователей, получение конкретных результатов.
Никодим Павлович Кондаков (1844-1925), безусловно, был одной из центральных фигур поколения археологов «постуваровского периода», тем более что с его именем в первую очередь связано образование целого самостоятельного, нового для мировой науки раздела археологии, археологического византиноведения, а в неразрывной связи с ним истории византийского искусства, где он «не только воссоздал историю византийского искусства путём привлечения совершенно нового материала, он сделал нечто большее, он выработал также вполне оригинальный метод для данной научной дисциплины, создав тем самым свою собственную школу», — так оценил «непреходящее значение Кондакова для науки» крупнейший из представителей этой школы, один из ведущих советских историков искусства В.Н. Лазарев. [101]
Н.П. Кондаков родился в семье отпущенного на волю управляющего князей Трубецких. В 1861 г. он поступил на историко-филологический факультет Московского университета, где особенно глубокое воздействие на него оказал Ф.И. Буслаев (1818-1897), прививший ему «то совершенно верное, ставшее впоследствии школьной догмой положение, что понимание древнерусского искусства невозможно без предварительного изучения древнехристианского и византийского искусства». После университета началась преподавательская деятельность Н.П. Кондакова в Москве. В 1866 г. появились его первые публикации, а в 1867 г. состоялась первая поездка за границу для изучения памятников классического искусства. В 1870 г. Н.П. Кондаков получил кафедру теории и истории искусств в Новороссийском университете. Прочитанная им 9 сентября 1871 г. в Одессе
вступительная лекция «Наука классической археологии и теория искусств» носила программный характер: только постоянно черпая факты из истории искусства, неразрывно связанной с другими историческими дисциплинами, прежде всего археологией классического мира, теория искусства может быть наукой. Оказавшись в Одессе, Н.П. Кондаков активно включился в работу одесских учёных по археологическому исследованию Северного Причерноморья. В.Н. Лазарев отметил: «Основательно ознакомившись в результате всех этих работ с культурой античного мира, Кондаков заполучил тем самым возможность построить свои дальнейшие исследования в области христианской и византийской археологии на весьма широком фундаменте».
С 1873 г. начался бесконечный ряд знаменитых кондаковских поездок на Восток и за границу, «тех самых поездок, которые, строго говоря, и сделали из Кондакова мирового учёного и изумительного знатока». В 1873 г. он знакомится с памятниками и древностями Грузии, в 1875-1876 гг. посетил все главнейшие города Европы; в 1881 г. — экспедиция на Синай, в 1884 г. — Константинополь, в 1889 г. — Кавказ, в 1891 г. — Сирия и Палестина, в 1898 г. — Афон и славянские земли. «Почти каждая такая поездка приносила вслед за собой издание какой-либо монументальной работы, дававшей огромный, совершенно свежий материал. Именно из материала этих поездок Кондаков и воссоздал постепенно историю византийского искусства», — писал В.Н. Лазарев. Первые его крупные обобщения появились в 1876 г. — «Древняя архитектура Грузии» (VI том Трудов МАО) и докторская диссертация «История византийского искусства и иконография по миниатюрам греческих рукописей», где впервые был применён разработанный Кондаковым и положенный в основу всех его последующих исследований «иконографический метод». После защиты докторской диссертации Н.П. Кондаков стал членом Археологической комиссии, принимал самое активное участие в организации VI Археологического съезда в Одессе, на котором в 1884 г. было представлено его новое капитальное сочинение — «Византийские церкви и памятники Константинополя». В 1888 г. Н.П. Кондаков был приглашён на должность профессора в Петербургский университет, одновременно он стал старшим хранителем средневекового отделения Эрмитажа, профессором истории искусств на Высших женских курсах, действительным членом РАО. Новый период его деятельности отмечен монументальным шеститомным изданием «Русские древности в памятниках искусства», осуществлённым совместно с И.И. Толстым, а по завершении этой работы появилось его крупнейшее исследование в области славяно-русской археологии — «Русские клады. Исследование древностей великокняжеского периода» — итог десятилетнего труда (в советское время продол-
женного А.С. Гущиным, Б.А. Рыбаковым, Г.Ф. Корзухиной). Последующее десятилетие отмечено появлением трех капитальнейших трудов Кондакова: «Памятники христианского искусства на Афоне» (1902), «Археологическое путешествие по Сирии и Палестине» (1904), «Македония» (1909). Завершили научную деятельность Н.П. Кондакова крупномасштабные труды по истории средневекового искусства «Иконография Богоматери. Связи греческой и русской иконописи с итальянской живописью раннего Возрождения» (1911) и двухтомная «Иконография Богоматери», изданная в 1914-1915 гг.
Академик, авторитетный сотрудник Эрмитажа, эксперт двора Николая II по иконописи, весной 1917 г. Н.П. Кондаков находился на лечении в Крыму; здесь его застали события октября 1917 г. С 1918 по 1920 г. Кондаков находился в Одессе, откуда с другими эмигрантами прибыл через Константинополь и Варну в Софию, а затем в Прагу. Здесь Кондаков с русскими и зарубежными учениками основал Seminarium Kondakovianum, после смерти основателя преобразованный в Институт Кондакова. Он существовал до начала немецкой оккупации 1938 г. в Праге, затем — в Белграде и был разрушен во время налёта немецкой авиации в 1941 г. Институт сыграл важную роль в развитии чехословацкого византиноведения, с ним была связана деятельность крупнейшего археолога-слависта Любора Нидерле (1865-1944), а в послевоенные годы славяновизантийская тематика в трудах чехословацких археологов В. Грубого, Я. Эйснера, И. Поулика развернулась в глубокие исследования уникальных по своей значимости памятников Великой Моравии. В Советском Союзе изучение византийского искусства и его взаимосвязей с древнерусским продолжали ученики Н.П. Кондакова Д.В. Айналов (1862-1939) и В.Н. Лазарев (1897-1976).
Византийское искусство в исследованиях Н.П. Кондакова впервые выступило как сложный культурно-исторический комплекс памятников Константинополя, Малой Азии, Сирии, Палестины, Египта, Балканского полуострова, Кавказа, Италии и России. В развитии искусства и культуры этого обширного региона Кондаков особое значение придавал традициям эллинизма, рассматривая их как стержень византийской культуры, определявший всё её строение. В то же время, наряду с эллинистической традицией, аккумулированной в столичном искусстве Константинополя, особое место в формировании византийского культурного комплекса играл мир так называемого греко-восточного искусства Египта, Сирии, Малой Азии, впитавший в себя широкие народные течения. Именно с этой культурной традицией Кондаков связывал византийское воздействие на искусство славянских народов: «Культуры русского и славянобалканского юга слагались, видимо, под общим условием влияния основной греко-восточной культуры, и именно этим, а не
влиянием Средней Азии и Персии мы должны объяснять господство восточного элемента в нашем и балканском орнаменте». [102] Наконец, третий компонент, оказавший значительное воздействие на развитие византийского искусства, это — мир кочевнических степей Южной России и Средней Азии, соприкасавшийся на востоке с Китаем, отчасти Индией, Персией, и на западе достигавший Испании и Франции. Интенсивность его влияний была вызвана художественной значимостью предметов утвари, быта, конских уборов, одеяний, других сторон материальной культуры, взаимодействие которых с античными традициями определилось уже в скифскую эпоху, а наибольшей интенсивности достигло в IV-VI вв., в эпоху Великого переселения народов, ключевую для развития всего европейского искусства Средневековья.
Таким образом, Кондаков первым в конкретном культурно-историческом плане очертил обширный регион, средневековое искусство которого (при всём своеобразии различных этнокультурных включений) основывалось на преемственном развитии эллинистической традиции. При этом он впервые оценил значение художественных и исторических импульсов, источником которых была обширная степная зона Евразии, зафиксировав этот вклад в момент его наивысшего воздействия (совпавший с формированием византийского искусства). По существу речь шла об очередном историческом этапе взаимодействия «варварских» культур Восточной Европы с античной цивилизацией, ранние этапы которого, по оценке Б.В. Фармаковского, стремился исследовать Н.И. Веселовский в той части территории «древней Скифии, которая непосредственно соприкасалась с владениями царей Боспора». Таким образом, поставленная Веселовским как самая ответственная для археологов России задача изучения «крупных культурных центров древнего человечества» (от Сибири до Закавказья) в деятельности Кондакова находила одно из удачных и чрезвычайно продуктивных решений. Тема взаимодействия античной, эллинистическо-византийской культурной традиции со степными (и связанными с ними более отдалёнными в пространстве и времени восточноевропейскими культурами) была сформулирована в работах Н.П. Кондакова, и, обеспеченная новыми первоклассными материалами в результате раскопок Н.И. Веселовского, получила дальнейшую разработку в исследованиях учёных нового поколения (Б.В. Фармаковского и затем М.И. Ростовцева). Обобщающая работа Ростовцева «Скифия и Боспор», аккумулировавшая важнейшие стороны проблемы, вышла в свет уже в советское время (Ленинград, 1925).
Связать динамичный, ёмкий, и во всемирно-историческом ходе становления мировой цивилизации чрезвычайно важный процесс культурно-исторического взаимодействия с древнейшими, последовательно развивавшимися цивилизациями Ста-
рого Света (от Переднего Востока и Средиземноморья до Китая), этно-культурных массивов населения степной зоны Евразии (от бассейна Дуная, Причерноморско-Прикаспийской области по всему пространству Южной Сибири до Монголии и Дальнего Востока) и процессы культурно-исторического развития в отделённой и связанной через степные культуры с миром древних цивилизаций лесной зоне Восточной Европы, т.е. на исторической территории России (где на протяжении тысячелетий шло формирование и протекала история славянских, балтийских, финно-угорских народов, а с последних веков I тыс. н.э. древнерусской народности, давшей начало русским, украинцам и белорусам), составляло совершенно особое направление в спектре задач, стоявших на исходе XIX столетия перед русской археологией. Новое поколение исследователей смогло выдвинуть учёных, способных осуществить решение такой задачи, и к чести ведущих археологов «постуваровского периода» то обстоятельство, что эти молодые силы вовремя были замечены и поставлены в условия, позволившие им раскрыть свой исследовательский потенциал.
Александр Андреевич Спицын (1858-1931) был представителем следующего за Кондаковым поколения научной молодёжи: его западноевропейским сверстником был Густав Коссинна. Этим учёным предстояло создать и реализовать новую систему научных понятий и представлений, которая позволила бы упорядочить громадный массив накопленных археологических фактов, превратить их в источники, раскрывающие историческую проблематику. По существу своему это была та же задача — освоение массива новых фактов и создания адекватного этому массиву исследовательского метода, в решении которой на византийско-русском материале архитектуры, изобразительного и прикладного искусства блистательно проявил себя Н.П. Кондаков. Византиноведение представляло собой новый, едва оформившийся раздел археологии; тем более важным было решение задач методической систематизации в остальных её разделах (как складывающихся, так и уже сложившихся).
А.А. Спицын родился в г. Яранске Вятской губернии в учительской семье. После окончания в 1882 г. Петербургского университета он вернулся в Вятку преподавателем гимназии. Ещё в студенческие годы А.А. Спицын в «Вятских губернских ведомостях» за 1880 г. опубликовал свою первую научную работу. Прошлое Вятского края, Прикамья, Поволжья стало главной исследовательской темой на ближайшее десятилетие. Первый результат этих занятий — опубликованный в 1882 г. «Каталог древностей Вятского края» — привлёк пристальное внимание археологов Москвы и Петербурга. На следующий год он дополнил его столь же основательным «Сводом летописных известий о Вятском крае». В 1886 г. Спицын опубликовал развернутую «Программу для описания доисторических древно-
стей Вятской губернии». Таким образом, ко времени своего участия в VII Археологическом съезде 1887 г. в Ярославле он был известен как целенаправленный и серьёзный исследователь.
П.С. Уварова поддержала его, предоставив средства для ведения археологических работ. А.А. Спицын провёл разведки по р. Вятке и Каме и опубликовал краткие сообщения в местных изданиях. Там же, в «Вятских губернских ведомостях» за 1888 г. (№64), вышла первая его обобщающая статья, посвящённая ананьинским памятникам. Полная публикация отчёта о произведённых работах в первом выпуске «Материалов по археологии восточных губерний России» (М., 1893) свидетельствовала о масштабном характере произведённых исследований, вполне оправдавшем возлагавшиеся на них надежды.
К этому времени А.А. Спицын занял уже прочное место в среде столичных исследователей. В 1892 г., по ходатайству Н.И. Веселовского и крупного русского историка С.Ф. Платонова, заведующего Отделением русской и славянской археологии РАО, декана историко-филологического факультета Петербургского университета, А.А. Спицына переводят в Петербург на службу в Археологической комиссии. Как писал позднее С.А. Жебелёв, первой заслугой А.А. Спицына «нужно признать бесспорно то, что с его появлением в Археологической комиссии русская археология стала занимать в ней надлежащее место, причем речь здесь идёт не только о собственно русской или славянской археологии, а об археологии России вообще». [103]
Впечатление потрясающего взрыва накопленной и хорошо направленной энергии производят подготовленные в первые же годы пребывания в АК А.А. Спицыным выпуски «Материалов по археологии России». MAP 14 (1893) «Люцинский могильник» — памятник, на долгие десятилетия ставший эталонным для раннесредневековых древностей Прибалтики. MAP 18 (1895) H.И. Бранденбурга с публикацией приладожских курганов сопровождали «Дополнительные замечания» А.А. Спицына, ставшие обобщающей, притом в основных своих положениях — исторически достоверной характеристикой приладожской курганной культуры X-XI вв. Наконец, MAP 20 (1896) с посмертной публикацией материалов раскопок Л.К. Ивановского, только благодаря огромному труду, вложенному в подготовку этого тома А.А. Спицыным, дал сопоставимую с материалами неславянских (балтских и финских) раннесредневековых культур, необычайно разностороннюю по охвату всех категорий вещевого инвентаря и особенностей погребального обряда характеристику преимущественно славянской погребальной культуры XI-XIV вв. северо-западной части Новгородской земли.
Одновременно Спицын предпринял систематичную обработку разнообразных материалов, сведения о которых накопи-
лись в Археологической комиссии, центральных и местных изданиях. С 1896 г. в ЗРАО публиковались (без подписи, как и многие другие заметки и материалы Спицына, видевшего в их подготовке свой служебный долг, а не личную заслугу) «Обозрения некоторых губерний в археологическом отношении». К 1899 г. этими «Обозрениями», позволявшими произвести первичную, территориально-хронологическую упорядоченность материала, было охвачено 26 губерний: Петербургская, Новгородская, Псковская, Тверская, Ярославская, Костромская, Владимирская, Московская, Смоленская, Витебская, Минская, Виленская, Могилёвская, Калужская, Тульская, Рязанская, Орловская, Курская, Черниговская, Киевская, Подольская, Волынская, Гродненская, Воронежская, Саратовская, Самарская. География «Обозрений», таким образом, в конце концов охватила практически всю европейскую часть территории страны. Осваивая этот материал, Спицын переходит к его систематизации, выделению категорий памятников и выявлению связей между ними. «Курганы с окрашенными костяками», «Городища Дьякова типа», «Сопки и жальники», «Удлинённые и длинные курганы», «Курганы киевских торков и берендеев» — вот лишь некоторые, характерные для второго этапа исследовательской работы А.А. Спицына, названия его публикации 1899-1903 гг.
Собственные полевые изыскания также представлялись Спицыну совершенно обязательными. В 1898 г. он провёл вполне успешные разведки и раскопки памятников бассейна Камы. Ананьинские материалы Зуевского могильника, исследованного А.А. Спицыным, и поныне занимают достойное место в музейной экспозиции Эрмитажа.
Характерно, однако, что в печати эти материалы появились лишь в посмертной публикации 1933 г. (Материалы ГАИМК, вып. 2). Как и другие, достаточно разнообразные полевые исследования А.А. Спицына, никогда не стали его главным делом. Учесть, сопоставить, свести воедино, осмыслить разнообразный материал, непрерывно добываемый едва ли не во всех уголках России, — вот в чём он видел свою важнейшую задачу. Помимо публикаций и отчетов, неотъемлемую часть спицынского наследия составляют его знаменитые «корочки», хранящиеся в Архиве ЛОИА АН СССР малоформатные папки с картотекой, которую он вёл на протяжении всей своей научной деятельности. Деловые, иной раз, казалось бы, краткие записи, зарисовки, схемы на разрозненных листах сохраняют и по сей день тщательно упорядоченную по темам, сплошь и рядом впервые выделенным Спицыным, научную информацию. К ним и сейчас обращаются исследователи, занимающиеся различными разделами археологии. Как отмечал С.А. Жебелёв, он был «исключительным знатоком курганных и могильных древностей эпохи бронзы, скифских, сарматских, славянских, народов Поволжья и Приуралья и др. — тут у него было очень мало
соперников; к каждому предмету, найденному при раскопках... он относился с особой отеческой любовью, с особым захватывающим интересом... был и прекрасным систематизатором древностей».
Плоды этой систематизации определились уже к 1899 г., .когда вышла в свет одна из центральных работ А.А. Спицына — «Расселение древнерусских племён по археологическим данным» (ЖМНП, VIII). В.В. Седов — один из ведущих археологов-славистов, оценивая её, писал: «Выдающийся русский археолог А.А. Спицын прекрасно показал, что курганы и вещевые материалы из них могут служить важнейшим историческим источником для исследования восточнославянских племён...
Древнерусские курганы, кроме общих признаков, объединяющих их в единую культуру и отличающих от соседних памятников, характеризуются локальными особенностями. Анализ этих особенностей позволяет выделить в восточнославянском ареале области, каждой из которых свойственны определённые детали погребальной обрядности и специфический набор женских украшений. Географическое положение этих областей соответствует летописным местам расселения восточно-славянских племён. Но археологические сведения, поскольку они несравнимо богаче летописных и поддаются детальному картированию, дали возможность уточнить указания письменных источников и детализировать картину расселения славянских племён в Восточной Европе... Выводы А.А. Спицына и его характеристика восточнославянских племён были безоговорочно приняты русскими и зарубежными исследователями... По пути, указанному А.А. Спицыным, построено исследование в трудах знаменитого чешского слависта Л. Нидерле». [104] Первый том «Славянских древностей» Любора Нидерле, о котором идёт речь, увидел свет в 1904 г., всего пять лет спустя после публикации Спицына. Приведённая же цитата — из монографии В.В. Седова 1982 г., изданной в составе энциклопедического свода «Археология СССР». Точное и последовательное изложение результатов и методических принципов А.А. Спицына само по себе свидетельствует об их актуальности и объективной ценности для археологической науки.
По существу, Спицын выступил одним из первопроходцев в поисках нового метода археологии — картографического. Первые опыты его применения в трудах западноевропейских учёных относятся к рубежу XIX-XX вв. Публикации Г. Аберкромби (1904, 1912), А. Лиссауэра (1904-1907), составивших первые археологические карты керамики и металлических украшений эпохи бронзы, обосновали продуктивность картографии как метода археологических исследований. «Картографирование стало неотъемлемой частью типологического метода, — отметил А.Л. Монгайт. — Картографируя однотипные археологические объекты, учёные стали замечать, что кроме объектов широкого
распространения, можно обнаружить вещи, погребения, постройки, типические для замкнутого района и позволяющие отличить этот район от соседних. Это единство археологических памятников определённого промежутка времени на сплошной и ограниченной территории, единство, выражающееся в близком сходстве орудий труда, утвари, оружия, украшений, погребального ритуала, построек и т.д., а также в однообразном изменении их форм в течение времени, позже получило название «археологической культуры». [105] В западноевропейской науке понятие «археологическая культура» стало основным средством историко-археологического исследования по мере того, как разрабатывались основы ретроспективного метода изучения генетических связей культур, отождествлявшихся при этом с древними и современными этносами (главным образом, в работах Г. Коссинны). В русской археологии А.А. Спицын был одним из первых представителей поколения, успешно и вполне самостоятельно формировавших «этнокультурную парадигму», в развитии археологического знания сменившую парадигму эволюционистов.
Понятие «культура» в работах А.А. Спицына появляется с 1901 г. и последовательно было им применено к важнейшим археологическим культурам Восточной Европы: фатьяновской, волосовской, трипольской, зарубинецкой, черняховской (многие из них были выделены, благодаря новым раскопкам и открытиям, сделанным современниками Спицына).
Следует отметить ещё один аспект его работы: с 1899 г. А.А. Спицын берёт на себя ставший регулярным и едва ли не обязательным труд по подготовке публикации материалов других, в том числе активно работающих исследователей. Раскопки В.Н. Глазова, Н.К. Рериха, Л.Ю. Лазаревича-Шепелевича, С.И. Сергеева, С.А. Гатцука и многих других археологов, пополнившие фонд славянской археологии принципиально важными находками, благодаря спицынским публикациям, существенно дополнили картину древнерусской культуры. Достаточно отметить среди этих публикаций материалы Гнёздовского могильника и владимирских курганов.
В 1909 г., без магистерского экзамена и пробных лекций, А.А. Спицын становится приват-доцентом историко-филологического факультета Петербургского университета. Подготовленный им курс лекций по русской археологии был первым в России. Значительные усилия были им предприняты для организации археологического кабинета и музея, формирования постоянного круга сотрудников и слушателей. Поколение петербургских археологов, многие из которых продолжали или же начали свою научную деятельность в советское время, своей подготовкой было обязано преподавательской деятельности А.А. Спицына. [106] Сравнительно скромное служебное положение, которое он занимал до конца предреволюционного периода своей деятельности, далеко не соответствовало действительному значению его орга-
низационно-методической, преподавательской, исследовательской работы по развитию петербургского научного центра российской археологии.
Василий Алексеевич Городцов (1860-1945) занимал в московском научном центре российской археологии ведущее место, во многом подобно положению А.А. Спицына среди археологов Петербурга. Он родился в семье сельского дьячка в с. Дубровичи Рязанской губернии; учился в Рязанской духовной семинарии, затем окончил военное училище и с 1880 по 1906 г. служил офицером русской армии. В 1880-е годы постепенно сформировалось увлечение В.А. Городцова археологией. Уже в 1887 г. он выступил в числе участников VII АС в Ярославле. В 1888 г. провёл первые самостоятельные раскопки окских дюнных неолитических стоянок. Вскоре по месту службы (протекавшей в эти годы в необычайно насыщенном археологическими памятниками всех эпох, от каменного века до средневековья, Волго-Окском междуречье) Городцов стал членом Рязанской (с 1891 г.), а в 1898-1899 гг. Ярославской учёной архивной комиссии (УАК). Губернские архивные комиссии по-прежнему оставались активными местными научными центрами, тесно связанными с Археологическим институтом в Петербурге, равно как и с Подготовительными комитетами МАО, организуемыми для очередных Археологических съездов, будучи их постоянными участниками. Именно здесь, в Учёных архивных комиссиях Рязани и Ярославля, прошёл начальный этап научного становления В.А. Городцова: он освоил методику изучения, а в значительной мере и проблематику широкого диапазона — неолита, фатьяновских памятников, финно-угорских древностей железного века, ярославских курганных могильников IX-XI вв. В 1900 г. его переводят служить на юг России, и с 1901 г. он разворачивает серию интенсивных исследований в Харьковской губернии, ознаменовавшуюся буквально триумфальным открытием замечательной «“триады” степных культур бронзового века» — ямной, катакомбной, срубной.
В этих работах В.А. Городцов выступил как сложившийся и опытный исследователь, с оригинальной и тщательно разработанной методикой. Военно-топографическая подготовка, организационные навыки, фундаментальное геологическое образование (в советское время он читал в университете курс «четвертичная геология») обеспечили сравнительно высокий уровень фиксации сложных в стратиграфическом отношении памятников. Детальный анализ стратиграфии курганных погребений позволил определить относительную хронологическую последовательность открытых культур, тем самым археология эпохи бронзы Южной России обрела самостоятельную и достаточно надёжную хронологическую шкалу. Задача, к постановке которой уваровское поколение едва подступало, была практически решена в течение буквально трёх лет (1901-1903 гг.). Разумеется, обработка и
систематизация полевых материалов потребовала значительного времени, но уже в Отчёте Исторического музея за 1914 г. был опубликован итоговый труд В.А. Городцова «Культуры бронзовой эпохи в Средней России» (М., 1916), в котором они были выстроены в достоверную, в дальнейшем не пересматривавшуюся, культурно-хронологическую колонку. Изученные В.А. Городцовым изюмские и бахмутские памятники «донецкого варианта» катакомбной культуры, как стали именовать их позднее, спустя более чем полвека, были оценены исследователями как «классическая катакомбная культура». [107]
Характерной особенностью В.А. Городцова-исследователя был постоянный и глубокий интерес к теоретико-методологическим вопросам. «Философия археологии» занимала его не менее полевых открытий. Впервые в русской и советской археологии, как отметил В.Ф. Генинг, «В.А. Городцов попытался представить археологию не только как собрание определённых фактов о древностях, но и как науку с определённой системой взаимосвязанных компонентов, имеющих заданные функции». [108] Стремление это реализовалось в его классификации наук, определявшей место археологии в системе познания мира, и в продолжавшейся десятилетиями работе над совершенствованием методов археологии.
На XI АС 1899 г. в Киеве Городцов выступил с монументальным теоретико-методическим исследованием «Русская доисторическая керамика» — опытом универсальной классификационной системы для описания глиняных изделий. Принципы типологического метода, освоенные и детализированные в этой работе, определённым образом реализовались в его классификации погребальных памятников степных культур эпохи бронзы и в разработанной позднее периодизации палеолита, основанной на смене тёсаной, сколотой и отжимной техники. Эта работа завершалась «учением о типологическом методе, предполагающем разделение индустрии на категории (по признаку назначения типов), группы (по ,,веществу типов”), отделы (по форме, „свойственной нескольким типам”) и типы (по форме, „присущей одному типу”)». [109] Использованная здесь система теоретических понятий была апробирована в 1899 г. В сравнительно-типологическом методе В.А. Городцов последовательно разграничивал собственно сравнительный, исторический (основанный на последовательно-хронологическом анализе выявленных объектов и явлений) и типологический, который (наряду с методикой раскопок, также детально и последовательно разработанной в ряде его публикаций) Городцов считал основным методом археологии. Четверть века (до конца 1920-х годов) он занимался теоретико-методическими разработками типологического метода, которые оказали значительное воздействие на научные взгляды и методические приемы не столько на его современников, сколько на учеников В.А. Городцова, а также на сравнительно молодую
по времени своего формирования археологию США середины — второй половины XX в. [110]
С 1903 г. В.А. Городцов стал нештатным сотрудником, а после увольнения в отставку из армии в 1906 г. — старшим хранителем Исторического музея в Москве. После смерти (в 1909 г.) признанного патриарха московской археологии И.Е. Забелина, он оставался едва ли не самым авторитетным из работающих московских исследователей. В непосредственном его ведении оказались коллекции материалов широчайшего диапазона: палеолита — Костёнки, Карачарово, Мамонтова пещера; неолитических стоянок Беломорья, Волго-Окского междуречья, Смоленщины, Белоруссии, Украины, Крыма, Сибири; памятников трипольской культуры (выявленных к середине 1910-х годов в пределах Черниговской, Киевской, Волынской, Подольской и Бессарабской губерний); фатьяновские материалы; великолепные изделия кобанской культуры, находки из Минусинской котловины в Сибири (среди них особое внимание привлекали древности тагарских памятников раннего железного века). Скифо-сарматская археология в фондах Москвы была представлена коллекциями не только случайных находок, но и материалами раскопок грандиозного Вельского городища, отождествляемого с Гелоном (скифским городом, известным по описанию Геродота). Среди кавказских коллекций выделялись древности Урарту. Железный век лесной полосы представляли материалы Ананьинского могильника, Гляденовского костища, «костеносных городищ», великолепные украшения Кошибеевского, Курманского, Борковского, Дубровического, Алекановского, Максимовского могильников. В полном составе в Историческом музее сохранилась коллекция Д.Я. Самоквасова, в том числе уникальные находки Чёрной Могилы. Славяно-русские древности, материалы курганов и жальников представляли культуру словен и кривичей, дреговичей, радимичей, вятичей, особое место в экспозиции занимали материалы Гнёздовского могильника.
Освоение этого колоссального материала, сосредоточенного в крупнейшем из археологических собраний страны, позволила В.А. Городцову занять выдающееся место в русской археологии. С 1907 г. началась его преподавательская деятельность в Московском университете. В 1908 г. он опубликовал свой первый курс лекций — «Первобытная археология», а в 1910 г. — его вторую часть — «Бытовая археология». Переизданные в несколько переработанном виде в советское время, эти работы оставались настольными книгами для нескольких поколений специалистов. В систематичном виде В.А. Городцов, основываясь на творчески переработанной переодизации эволюционистов, а во второй части — последовательно опираясь на «географическую теорию» Л.И. Мечникова, дал практически первую в русской научной литературе развёрнутую «археологическую версию» мирового культурно-исторического процесса, в котором
вполне определённое место нашли основные археологические культуры, к тому времени выделенные на территории Российского государства и получившие обобщённые, но принципиально в основном верные характеристики.
В.А. Городцов окончил свои дни профессором Московского университета, членом ВКП(б), однако наиболее значимые десятилетия его научной деятельности относятся к дореволюционной эпохе. В расцвете своих сил этот исследователь, несомненно, очень во многом «определял лицо» нового поколения российских археологов.
Это поколение составили исследователи различного масштаба и дарования, но большинству из них свойственны были, если не достаточно высокий профессионализм, то, как правило, значительно компенсировавшие его нехватку интенсивность исследований и широта интересов. Именно их усилиями напряжённая работа по концентрации, а затем систематизации данных вышла за пределы столичных научных центров и развернулась на различных, достаточно обширных территориях страны. Наибольшее значение для российской археологии рубежа XIX-XX вв. имели, пожалуй, открытия, сделанные этими учёными на Украине, где, по существу, формировалась уже вполне самостоятельная научная школа.
Сергей Свиридович Гамченко (1859-1934) был одним из ярких представителей этого поколения. В его судьбе много общего с судьбой В.А. Городцова. Он также большую часть своей жизни был офицером русской армии, и археологией увлекся ещё в ранней молодости (в 1878 г. участвовал в раскопках близ Житомира, которые проводил В.Б. Антонович). Под руководством этого авторитетного исследователя Гамченко осваивал начальные основы проблематики и методики исследования славянских памятников второй половины I тыс. н.э. на Житомирщине, в 1886 г. он провёл первые самостоятельные раскопки, а в 1888 г. опубликовал полученные материалы Житомирского могильника. На IX Археологическом съезде (Вильно, 1893 г.) Гамченко выступил с небольшой сводной работой, опубликованной в Трудах IX АС.
Вскоре его перевели служить в Петербург. Здесь С.С. Гамченко обратил внимание и предпринял разведки и раскопки памятников Северного побережья Финского залива, которые вошли в научную литературу под именем «сестрорецких длинных курганов». Правда, в ряде случаев он принял за погребальные насыпи смолокурные и углежогные сооружения, широко распространённые в финских народных промыслах; это не осталось незамеченным АК как серьёзный промах, и потребовалось вмешательство А.А. Спицына для того, чтобы С.С. Гамченко смог продолжить свою археологическую деятельность.
В 1909 г. он возобновил работы на Украине, продолжавшиеся ло существу до конца его дней: раскопки памятников триполь-
ской и черняховской культур в Подольской губернии Гамченко вёл до начала первой мировой войны, а с 1919 г. вёл исследования на Волыни и Житомирщине, в 1928 г. участвовал в проведении археологических работ на строительстве Днепрогэс. Вокруг С.С. Гамченко сформировался тесный круг учеников, проблематика исследованных им памятников в итоге охватила все периоды археологической шкалы: палеолит (Волынь), неолит (Волынь, Харьковская обл., сестрорецкие стоянки), триполье (Волынь, Подолия, Черкасская обл.), памятники эпохи бронзы (Волынь, Подолия, Днепропетровск), раннего железа (Волынь, Подолия), «культуры полей погребений» (Волынь, Подолия, Черкасская обл.), славяно-русские древности (Волынь, Житомирщина, Киев). Именно С.С. Гамченко на территории нашей страны стал первооткрывателем наиболее ранних «достоверно славянских памятников» культуры V-VI вв., получившей позднее название корчакской. В 1919-1923 гг. эпонимный для этой культуры памятник у с. Корчак Житомирского района и области был им тщательно изучен. Правда, публикацию этих материалов советский археолог В.П. Петров смог осуществить лишь в 1963 г., после того как результаты раскопок С.С. Гамченко были пересмотрены и правильно интерпретированы Ю.В. Кухаренко, опознавшем в них остатки раннеславянских жилищ с керамикой «пражского типа». Сам же Гамченко раскопанные им развалы печей-каменок из корчакских полуземлянок считал своеобразными погребальными сооружениями. [111]
Очевидные ошибки и недочёты не умаляют значения этого открытия. Именно материалы, добытые С.С. Гамченко, оказались в итоге «у истоков славянской археологической проблематики». И то, что потребовались десятилетия для того, чтобы эти материалы привлекли внимание и были заслуженно оценены новыми поколениями археологов-славистов, в первую очередь объясняется сложными условиями, в которых протекала его многолетняя научная деятельность. Организационно-методическая структура дореволюционной археологии на Украине была ещё более рыхлой и незавершённой, нежели в столичных центрах.
Между тем украинской археологией занимались не только одарённые и целеустремлённые, но и разносторонне подготовленные специалисты. Дмитрий Иванович Эварницкий (1855-1940), историк, археолог, этнограф, фольклорист, писатель, в советское время стал академиком АН УССР, в 1927 г. он был ответственным руководителем работ на территории Днепрогэса, первой крупной «новостроечной экспедиции» в нашей стране. Коллегой его по украинской Академии наук стал представитель того же поколения Владислав Петрович Бузескул (1858-1931), глубокий знаток античности, специалист по источниковедению и историографии, превосходно владевший именно теми методическими основами исторического знания, нехватка которых порой сказывалась в полевых исследованиях археологов. Специа-
листом столь же высокого класса был и еще один из первых советских академиков Украины Николай Федотович Биляшевский (1867-1926): археолог, этнограф, искусствовед, превосходный знаток письменных источников и современной зарубежной научной литературы, он осуществлял самостоятельные работы и внимательно следил за археологическими исследованиями памятников палеолита, триполья, полей погребений. Потенциал всех этих исследователей вряд ли следует оценивать ниже, нежели потенциал их столичных сверстников, где к изучению древностей южных областей страны — Украины, Причерноморья также приступали яркие творческие индивидуальности, представлявшие новое поколение российской науки.
Сергей Александрович Жебелёв (1867-1941) должен быть назван первым из них не только как один из несомненных лидеров научной школы, преемственно развивавшейся в Петербурге — Петрограде — Ленинграде, с которым до последнего дня была связана его жизнь. Высококвалифицированный античник, специалист по истории, эпиграфике, классической филологии, он создал фундаментальные труды по истории греческих полисов Северного Причерноморья (эти, историко-археологические по своему существу, исследования, стали реализацией наиболее значимых в источниковедческом отношении результатов дореволюционной археологии). И поэтому вполне закономерно, что именно С.А. Жебелёв, разносторонне владевший и материалом, и методикой, и проблематикой дореволюционной классической археологии, оставил советской науке одно из первых обобщающих исследований по методике и истории своей дисциплины — двухтомное «Введение в археологию», которое одновременно является и памятником определённого этапа развития науки, и одним из непреходящих её достижений.
Современником и коллегой С.А. Жебелёва по Петербургскому университету был Яков Иванович Смирнов (1869-1918), по признанию Н.П. Кондакова, — лучший из его учеников. Окончив университет в 1891 г., он поступил в магистратуру, а в 1893 г. Кондаков предложил поручить ему задуманную в Археологической комиссии ответственную работу — подготовку атласа «Приуральские древности», от которой отказался И.И. Толстой. Речь шла о редчайшем по полноте и трудоёмкости обработки собрании восточной (в основном, сасанидской) серебряной торевтики: коллекция драгоценных иранских сосудов, обнаруженных в кладах и захоронениях Поволжья, Приуралья, Западной Сибири и сосредоточенных в Эрмитаже, стала к тому времени крупнейшей в мире. В 1894-1897 гг. для подготовки этой работы Я.И. Смирнов совершил серию заграничных поездок: в Египет, Малую Азию, Грецию, балканские и западноевропейские страны. Памятники античного, византийского, восточного искусства и особо произведения восточной торевтики, найденные в России, но попавшие в западноевропейские собра-
ния, были им тщательно изучены. После этого приват-доцент Петербургского университета стал хранителем Эрмитажа (1899 г.). В 1908 г. увидел свет главный труд жизни Я.И. Смирнова — «Восточное серебро. Атлас древней серебряной и золотой посуды восточного происхождения, найденной преимущественно в пределах Российской империи», принёс ему всемирную известность. С 1909 г. он — старший хранитель Эрмитажа, член-корреспондент, а с 1917 г. — ординарный академик Российской Академии наук. [112]
Среди завоевавших мировую известность представителей нового поколения российских археологов особо должно быть выделено имя Бориса Владимировича Фармаковского (1870-1928). Он родился, как и Спицын, в Вятке, в учительской семье. В 1892 г. окончил историко-филологический факультет Новороссийского университета в Одессе и был оставлен при кафедре истории искусств. В те же годы, что и Я.И. Смирнов (1894-1897), он прошёл длительную заграничную подготовку в музеях и научных центрах, археологических экспедициях на территории Греции, Италии, Франции, Англии, Германии, Австро-Венгрии, Турции. С 1898 г. Фармаковский получил пост учёного секретаря Русского археологического института в Константинополе, а с 1901 г. стал членом Археологической комиссии в Петербурге. [113]
Первоклассная научная подготовка определила не только громадный объём систематизированного фактического материала, которым владел Фармаковский в области археологии, филологии, истории, искусствознании античного мира. Он освоил также методический опыт крупномасштабных многолетних раскопок античных памятников, прежде всего Олимпии, где получил полевую археологическую подготовку, позволившую перенести этот опыт и развить его в исследовании античных памятников Северного Причерноморья. В 1896 г. Фармаковский провел разведочные работы, а с 1901 г. начал стационарные раскопки Ольвии. Помимо исследований Н.Я. Марра в Ани, это был первый и беспрецедентный для отечественной археологии опыт многолетних работ по систематичному раскрытию древнегреческого полиса. Начало XX в. совпало с рубежом качественно нового этапа развития археологической науки в России.
С 1901 по 1908 г. продолжались раскопки Верхнего города, в 1909-1915 гг. Б.В. Фармаковский планомерно исследовал Нижний город Ольвии. Для характеристики значения этих работ достаточно отметить то обстоятельство, что именно Ольвийская экспедиция под руководством Б.В. Фармаковского, возобновившая свои исследования в 1924 г. по приглашению правительства Украинской Советской Социалистической Республики, стала первой стационарной археологической экспедицией, постоянным научным подразделением ГАИМК советского времени.
Напряжённые полевые исследования, преподавание (с 1905 г. — приват-доцент Петербургского университета), организационная работа (член АК, с 1906 г. — учёный секретарь РАО) сочетались у Фармаковского с блистательными кабинетными изысканиями — от скрупулёзных и неожиданно точных по результатам вещеведческих этюдов до крупномасштабных историко-культурных обобщений. Из 82 опубликованных им работ следует выделить представленный в 1913 г. доклад на Международном конгрессе историков в Лондоне — фундаментальный труд «Архаический период в России» (публикация в MAP 34, 1914). Здесь Фармаковский впервые последовательно рассмотрел и связал в единую культурно-историческую систему наиболее ранние материалы архаической Ольвии, Скифии и Кавказа и пришёл к принципиально важным выводам о том, что «ионийское искусство» северопричерноморских колоний оказало непосредственное воздействие на формирование скифского «звериного стиля», передав ему мотивы и образы, уходящие корнями в эгейское и хеттское искусство Малой Азии. Начальные этапы воздействия переднеазиатских культур на Северное Причерноморье Фармаковский прослеживал ещё во II тыс. до н.э., а возникшее как одно из основных проявлений этого воздействия искусство «звериного стиля» развивалось непрерывно вплоть до эпохи Великого переселения народов (V-VI вв.), пережитки же его плотно вошли в народную культуру России и сохранялись вплоть до этнографически наблюдаемого этапа её развития.
И в хронологическом, и в географическом отношении это были исключительно важные культурно-исторические заключения: по существу, определялась, по неизвестным ранее параметрам искусствознания, позиция в мировом культурно-историческом процессе того особого культурного мира, устанавливавшего собственные отношения со всеми цивилизациями древности, за которым античная традиция закрепила имя «Скифия». Определение географических и хронологических границ этого «культурного материка», безусловно, служившего глубинным фундаментом всей последующей истории и культуры России, определявший её место в мире, было важнейшей задачей отечественной гуманистики. И совершенно по праву оригинальное решение этой задачи, предложенной Б.В. Фармаковским, сделало его к 1914 г. учёным с мировым именем. Именно ему, в частности, было поручено представлять Россию на трёх международных конгрессах (Афины — 1905 г., Каир — 1909 г., Лондон — 1913 г.). Как в организационном, так и в исследовательском отношении в деятельности Б.В. Фармаковского воплощалось равноправное и творческое сотрудничество учёных России с мировой, прежде всего западноевропейской археологической наукой.
Новые решения крупных культурно-исторических проблем, предлагавшиеся российскими учёными, получили одобрение и
поддержку в мировой науке не только в силу масштабности и высокого профессионального уровня создаваемых обобщений. 1890-1900-е годы плотно заполнены новыми открытиями, выявлением целых пластов древностей различных эпох, связывавших европейскую часть России не только с миром древневосточных и античной цивилизаций, но и с культурно-историческими процессами, выявлявшимися на территории Юго-Восточной, Центральной, Северной Европы. Наиболее важные из этих открытий были осуществлены на Украине и связаны с именем ещё одного крупного археолога «постуваровского» поколения.
Винцент, или, как его называли в России, Викентий Вячеславович Хвойка (1850-1914), родился в чешском селе Семини, образование получил в коммерческом училище г. Хрудим, с 1864 г. жил в Праге, где увлёкся историей, антиквариатом, коллекционированием. В 1876 г. В. Хвойка навсегда покинул пределы Австро-Венгерской монархии и переселился в Россию. В Киеве он преподавал немецкий язык, живопись, успешно занимался сельским хозяйством (его достижения в этой области были отмечены на выставках в Ромнах, Харькове, Париже). Продолжались и его занятия коллекционированием древностей, привлёкшие внимание В.Б. Антоновича. В.В. Хвойка принимал участие в археологических исследованиях Антоновича, занял пост заведующего музеем Киевского общества древностей и искусств.
С 1893 по 1900 г. В.В. Хвойка, под наблюдением В.Б. Антоновича, провёл первые крупные археологические исследования палеолитической Кирилловской стоянки, открытой в Киеве при земляных работах. Так, спустя двадцать лет, удалось наконец обнаружить палеолитические памятники, поиском которых Антонович занимался ещё в 1870-е годы. Ряд новых стоянок был обнаружен Хвойкой в 1901-1903 гг. (у с. Селище близ Канева, на Батыевой горе, в долине Лыбеди близ Киева и др.). Однако ещё при раскопках палеолитического слоя Кирилловской стоянки были зафиксированы залегавшие выше него остатки жилищ с керамикой. Поиском подобных памятников Хвойка занимался с 1895 г. всё более успешно и в 1897 г. открыл поселения с землянками и глинобитными «площадками» у с. Триполье, Веремье, Жуковцы. Началось исследование трипольской энеолитической культуры, первой из серии раннеземледельческих культур «расписной керамики».
Раскопки этих памятников, исключительно богатых эффектными и выразительными материалами, В.В. Хвойка продолжал до 1909 г. Серия докладов о Триполье была представлена им на XI (1899 г., Киев), XIII (1905 г., Екатеринослав), XIV (1908 г., Чернигов) Археологических съездах. Хвойка разработал первую периодизацию трипольской культуры, разделив её на стадии: Триполье А (медный век, более поздние «площадки»), Триполье Б (более ранние, каменный век) и древней-
шие землянки. Установив земледельческий характер трипольских поселений, В.В. Хвойка считал их создателей протославянами, автохтонными потомками обитателей палеолитических стоянок типа Кирилловской. Черты связей с Трипольем (ослабленных наплывом «киммерийского» населения эпохи бронзы) он стремился проследить в материалах городищ скифского времени — Матронинского, Шарповского, Пасторского.
1899 г. ознаменован серией новых открытий В.В. Хвойки: у с. Зарубинцы, Черняхов, Ромашки им были открыты и раскопаны могильники «полей погребений», заполнявшие хронологический разрыв между скифскими и древнерусскими памятниками. Уже в 1901 г. В.В. Хвойка разделил их на две последовательно сменявшие друг друга археологические культуры: зарубинецкую (рубежа н.э.) и черняховскую (первые века н.э.). Затем эта периодизация была им уточнена: выделены предзарубинецкий период (памятники типа Пруссы), зарубинецкая культура, Черняховский могильник и черняховская культура, послечерняховская культура эпохи Великого переселения народов. Славянский характер всех этих групп древностей не вызывал у В.В. Хвойки никаких сомнений.
Трудно переоценить масштабы сделанных в течение нескольких полевых сезонов замечательных открытий В.В. Хвойки. Любого из них достаточно для того, чтобы имя исследователя заняло почётное место в истории науки. Столь же безусловно положительно нужно оценить и его стремление максимально упорядочить полученные результаты, построить законченную и стройную хронологическую колонку, секвенцию археологических культур. Созданная В.В. Хвойкой культурная стратиграфия Среднего Поднепровья, практически непрерывная от каменного века до древнерусской эпохи, стала важнейшим достижением отечественной археологии.
Слабым местом построений В.В. Хвойки была прямолинейная этническая интерпретация открытых им археологических культур: близкие этнокультурные общности энеолита и железного века открывались далеко за пределами России и на территориях, не связанных с историческими судьбами славянства. Неоднозначность этих проблем была ясна многим из современников и коллег В.В. Хвойки, и в ближайшие же годы интерпретация его результатов стала предметом острых дискуссий. Сформулированные им взгляды на преемственно-автохтонное развитие населения Среднего Поднепровья, хотя и не могли быть обоснованы систематичной и доказательной аргументацией, однако находили определённую поддержку и в эти, и в последующие десятилетия.
Энтузиазм, интенсивность и несомненная продуктивность работ В.В. Хвойки вызывали сочувствие и поддержку киевской общественности. Слабые стороны его культурно-исторических построений обращали на себя внимание наиболее квалифициро-
ванных специалистов как в Киеве, так и в столичных центрах. Вызывала критику и методика раскопок Хвойки, часто вполне заслуженную. Поэтому, когда в 1907 г. он начал раскопки на Старокиевской горе, в древнейшей части Киева, после обсуждения первых, очень впечатляющих результатов («капище», дворцы, жилища, мастерские), на XIV АС, Археологическая комиссия приняла решение о выделении на проведение в течение 10 лет дальнейших раскопок ежегодных ассигнований в 2 тыс. руб. Однако при этом ведение работ поручалось Б.В. Фармаковскому.
Украинские археологи более полувека спустя с обидой вспоминали об этом решении; в столкновении 38-летнего Фармаковского и 58-летнего Хвойки виделось прежде всего давление столичной аристократии и бюрократического аппарата на демократическую общественность. [114] Вряд ли можно упрекнуть в аристократическом высокомерии Б.В. Фармаковского, сына вятских учителей; скорее уж, его требовательность определялась высокой научной квалификацией, достигнутой прежде всего собственными усилиями. Но подобный «аристократизм духа» в условиях чиновно-бюрократического руководства из имперской столицы неизбежно воспринимался как аристократизм сословный; а воздействие сословных перегородок, сознательное или неосознанное, отнюдь не способствовало поиску общего научного языка, единого и взаимопонятного даже для одного, по существу, поколения исследователей.
6. Дифференциация исследовательских подходов. ^
Между 1884 и 1899 гг. в российской археологии выделилось несколько вполне самостоятельных научных течений, или, точнее, методико-методологических подходов к предмету изучения, задачам и методам работы с археологическим материалом. Этот процесс развивался во многом естественным, стихийным путём и ни в одном случае не дошёл до стадии кристаллизации и изложения законченной парадигмы, системы научных взглядов, чётко объединяющих представителей одного подхода и отделяющего их от других течений. В силу этого границы между ними оставались размытыми. Тем не менее различия в подходах отчётливо проявились уже в составе и тематике «общих вопросов», равно как и конкретных выступлений, на VI (1884 г., Одесса), VII (1887 г., Ярославль), VIII (1890 г., Москва) АС, где в это время постепенно поляризовались взгляды сторонников естественнонаучного течения, развивающего парадигму эволюционистов (сдвигаясь при этом на периферию научной среды российской археологии) и представителей других подходов, формирование которых в целом относится к «постэволюционистской» эпохе.
Большинство археологов России оставалось в рамках течения, которое можно назвать «общекультурно-историческим», представлявшего собой, по существу своих взглядов, прежнюю «бытописательскую парадигму», но реализующуюся в условиях быстрого и при этом неравномерного, с качественным изменением внутреннего состояния ряда дисциплин, развития всего комплекса гуманитарных знаний. Археология в этой ситуации выступала по преимуществу как вспомогательная дисциплина, сообразующая свои данные и построения с результатами ведущих отраслей родственного знания. Продуктивнее всего такое соотношение оказывалось для классической, античной археологии с её развитым источниковедческим базисом и обширным спектром конкретно-исторической проблематики. Вполне органично к классической археологии примыкала скифо-сарматская: эффективное включение в эту проблематику таких квалифицированных специалистов-античников, как Б.В. Фармаковский, а позднее М.И. Ростовцев, можно объяснить и глубокой культурно-исторической взаимосвязью античных полисов и «варварской периферии» греко-римского мира и общностью классических письменных источников, раскрывающих эту взаимосвязь. В то же время, в комплексе взаимодействующих на базе античной и скифо-сарматской проблематики дисциплин, прежде всего благодаря работам В.Ф. Миллера, всё более важную роль начинала играть лингвистика, в деятельности этого учёного и ряда его последователей, связываемая как с археологией, так и ещё более тесно — с этнографией Кавказа, а затем и других областей. Происходившее благодаря этому подключение археологии к разработке обширного комплекса проблем индоевропеистики в целом в значительной мере повышало реализацию познавательного потенциала археологических данных. Историческая география, общественный строй, обряды, религиозно-мифологические представления, культурные связи иранских племён Северного Причерноморья исследовались на основе «скифских древностей».
По мере убывания информативности античных источников, расширение спектра проблематики в рамках этого подхода в значительной мере компенсировалось возрастающим вовлечением общекультурных построений, и прежде всего методов, понятий и исследовательских приёмов искусствоведения. Постепенно обособлялось «художественно-историческое» течение российской археологии, к исходу столетия завоёвывающее всё больший авторитет. Включение искусствознания в связанный с археологией гуманитарный комплекс расширяло её познавательные возможности, правда, за счёт обособления художественно-выразительных памятников от остального фонда артефактов, в тенденции — от материальной культуры в целом. На определённом этапе в какой-то мере это обособление преодолевалось наметившейся тенденцией к усилению интуитивно-образной сто-
роны познания, «видения» исторического прошлого с опорой на археологический материал. Эта тенденция, намечающаяся уже в некоторых выступлениях В.И. Сизова (о курганных материалах по древнерусскому костюму и вооружению), ярко проявившаяся в воздействии на развитие археологии, особенно славянорусской, исследователей и историков архитектуры, таких, как В.В. Суслов, поддерживалась подъёмом исторической живописи Г.И. Семирадского (1843-1902), переходившего от насыщенных колоритными деталями «греко-римского быта» монументальных полотен к древнерусской тематике (серия работ, посвящённых Александру Невскому, и эффектное полотно «Похороны руса», представлявшее собой археолого-этнографический комментарий к знаменитому описанию Ибн-Фадлана). Тема «археология в живописи конца XIX — начала XX вв.» требует ещё исследования, но это взаимодействие следует учитывать уже в силу того, что оно отразило разные этапы формирования археологических представлений. От пронизанного «буквой и духом» забелинского бытописания «видов Москвы» А.М. Васнецова (1856-1933) русская живопись, в творчестве его старшего брата В.М. Васнецова (1848-1926), вышла к освоению собственно археологического пласта как «скифской», так и непосредственно «русской темы». В начале 1880-х годов появился не только «Бой скифов со славянами», но и «Витязь на распутье», и васнецовские «Богатыри». Потрясающий своей одухотворённой силой, уходящий корнями в глубокую древность (индоиранскую, как и скифо-сарматский термин «бохатур», по исследованиям В.Ф. Миллера), образ эпического воина стал концентрированным выражением национального самосознания. Наконец, новый уровень этого образного проникновения в глубокую суть истории реализовался в совмещении художественного и археологического начал, воплощённых в творчестве Н.К. Рериха.
«Художественно-исторический» подход реализовывался и в систематизации археологического материала; наиболее полным образом его представляли «Русские древности» Н.П. Кондакова и И.И. Толстого. Служившие одновременно и систематизированным справочником по древним произведениям прикладного искусства (от античной эпохи до Древней Руси), и своего рода «первоисточником» ряда художественных образов (решений, мотивов, форм), их следует рассматривать в широком культурном контексте как один из преобладающих компонентов наметившейся во второй половине 1880-1890-е годы тенденции к новому уровню взаимодействия и синтеза различных видов художественного творчества, тенденции, служившей и стимулом, и в какой-то мере сферой применения достижений «художественно-исторического» течения. Это взаимодействие проявлялось и в новых организационных формах. Наиболее яркий образец такого рода — формирование своеобразного художественно-исто-
рического центра в Смоленске, созданного активной деятельницей культурной жизни России рубежа веков кн. М.К. Тенишевой. Историко-археологический профиль этого центра определился, благодаря участию в нём И.Ф. Барщевского (1851-1948), приглашённого Тенишевой для организации в Смоленске Музея народного искусства (сотрудником которого Барщевский оставался до 80-летнего возраста, когда по ходатайству Смоленского совета ему в 1931 г. была предоставлена персональная пенсия). Создатель уникальной фотографической коллекции, посвящённой древнерусским памятникам, Барщевский с 1877 г. деятельно сотрудничал с А.С. Уваровым, академиками архитектуры А.М. Павлиновым и В.В. Сусловым, Н.П. Султановым, Н.П. Кондаковым, П.С. Уваровой. С 1886 г. он работал в Ярославле, заложив основы музейного дела в этом древнерусском городе, а в 1898 г. был приглашен Тенишевой в Смоленск, где возглавил музей и стал одним из руководителей Смоленской Учёной архивной комиссии. В 1900 г. были организованы художественные мастерские в тенишевском имении Талашкино под Смоленском, где вместе с М.К. Тенишевой развитием народных художественных промыслов, формированием этнографических коллекций, поисками новых архитектурных и монументально-декоративных решений, основанных на освоении древнерусского и народного наследия, наряду с И.Ф. Барщевским, занимались такие выдающиеся мастера русского искусства конца XIX — начала XX в., как В.М. Васнецов, И.Е. Репин, В.А. Серов, М.А. Врубель, Н.К. Рерих и ряд других. [115]
Методические принципы художественно-исторического подхода в российской археологии последовательнее всего были разработаны Н.П. Кондаковым, первоначально — на базе изучения византийских древностей, прежде всего произведений византийского искусства. Он так определял общие задачи художественно-исторического исследования: «Археологическая наука станет самостоятельною и решающею, когда, изучив памятники ради них самих, она поставит их в узле путей своего исследования, но не ограничиваясь эстетическим анализом, осветит эти памятники изнутри их самих и извне данными быта, культуры и политической жизни». [116] При этом «памятник должен быть освещён предварительно сам по себе, по своим историческим признакам, и эти признаки должны быть затем указаны как исторические черты в ходе (развития) иконографического типа». [117] Поэтому «в исторической науке важнейшим её актом является сперва выбор из представившегося материала древности такого рода предметов, которые, по своей характерности, могли бы образовать собою «памятники» эпохи, и после выбора такая сравнительная их характеристика и последовательное расположение по времени и взаимной связи, которая давала бы в результате историческую их постановку наподобие вех по пути, намечаемому для будущих исследователей». [118] Сравни-
тельно-стилистическии анализ в искусствоведческих исследованиях Н.П. Кондакова был применен на качественно новом уровне, позволяющем определить его как принципиально новый, «иконографический метод». Характеризуя его, В.Н. Лазарев отмечал: «В основу этого метода была положена совершенно правильная мысль. Византийское искусство не являлось искусством индивидуальных мастеров и художников... в нём неизменно доминировал типический подход к действительности, облекавшийся в канонические, идеальные формы... в византийском искусстве раз выработанные типы держались с необычайной устойчивостью, подвергаясь в процессе развития лишь незначительным, а главное — постепенным изменениям... Метод, атрибуции и планировка материала по стилистическим группам были в данном случае не всегда применимы, т.к. в известном отношении они шли в разрез с общим характером византийского искусства. И именно здесь и выступает во всём своём значении иконографический метод Кондакова... Проследив эволюцию какого-либо иконографического мотива, он заполучал тем самым возможность найти целый ряд точек опоры для датировки, хронологии и классификации памятников... Анализ же иконографии позволял Кондакову делать заключения о влиянии одного художественного мира на другой и о их генетическом происхождении». [119]
«Иконографические типы», положенные в основу «иконографического метода» Кондакова, по существу своему были открытием (в византийском искусстве, благодаря прежде всего его культурно-исторической специфике, свойственному ему, по определению В.Н. Лазарева, «типизму») того явления, которое позднее получило определение «культурного типа». Первые формулировки этого понятия появились в теоретических исследованиях американского археолога У. Тэйлора почти полвека спустя после главных работ Н.П. Кондакова, а как основной элемент «системной стратегии» археологического исследования «культурный тип» стал рассматриваться лишь в конце 1970-х годов в теоретико-методических разработках советского археолога Л.С. Клейна. [120] Между тем Н.П. Кондаков не только реализовал исследовательские возможности своего метода на материале византийского искусства, но и наметил пути его применения к археологическим материалам, в особенности славяно-русским. Им посвящалась его работа 1898 г. «Русские клады. Исследование древностей великокняжеского периода». Ювелирные изделия рассматривались здесь как «продолжение курганных древностей». При этом, подчёркивал Кондаков, «так как археология сама есть только область знания, черпающая свои приёмы из науки истории искусства, которая ставит в основание исследование форм в их художественном образовании и развитии или исследование стиля, то и здесь мы должны принять своей главной задачею изучение курганных древностей, кладов и пр.
прежде всего со стороны их стиля, типической формы предметов, её исторических изменений». [121]
Безусловно, задача выделения «культурных типов» средствами «иконографического метода» оказывалась достаточно сложной в применении к древнерусскому искусству, которое, как подчёркивал Кондаков в 1899 г., представляло собой «оригинальный художественный тип, крупное историческое явление, сложившееся работою великорусского племени при содействии целого ряда иноплеменных и восточных народностей». [122] Если в сфере церковного искусства иконографический метод был вполне применим и к древнерусскому материалу, то собственно археологические древности находились далеко ещё не на том уровне систематизации, который позволил бы оперировать здесь понятием, равнозначным «культурному типу».
Задачи такой систематизации решались средствами научной стратегии, которая в современных исследованиях обозначается как «индуктивно-аналитическая»: именно так следует определить тот подход к организации эмпирического материала, группировке его в культуры и выделения «эмпирических типов», часто — без чёткого их определения, методом визуальной идентификации («кольцо типа MAP 20, табл. XXII, I»), ярким и наиболее продуктивным представителем которого был А.А. Спицын. При этом следует иметь в виду, что сам по себе характер индуктивно-аналитического (в последующей литературе его чаще называли «эмпирическим») подхода не требует развёрнутого изложения теоретико-методических принципов. Однако это не означает их отсутствия: типология, которой пользовался Спицын, как и выделявшиеся им культуры, были рабочими понятиями развивавшейся модификации сравнительно-исторического (в археологическом аспекте — типологического) метода и так же, как для художественно-исторического подхода искусствознание, здесь функцию методологического лидера (ориентира, образца), с которым соотносились и приёмы, и, что более важно, конечные результаты исследования, служила дисциплина, добившаяся наибольших результатов в применении сравнительно- исторического метода к родственному материалу. Такой дисциплиной в 1890-е годы была прежде всего лингвистика, и в частности славянское языкознание. В.В. Седов подчеркнул значение, которое для исторической интерпретации, т.е. оценки результативности систематизации славянских археологических материалов, осуществлённой в 1899 г. А.А. Спицыным, имели работы лингвистов: «Изучая современные диалекты восточнославянских языков и материалы древнерусской письменности, А.А. Шахматов, А.И. Соболевский утверждали, что между диалектной дифференциацией древней Руси и племенами Повести временных лет существует какая-то зависимость... А.А. Спицын подтвердил мысль А.А. Шахматова об этническом своеобразии племён Повести временных лет». [123]
Алексей Александрович Шахматов (1864-1920), языковед, текстолог, историк, для значительной группы археологов-славистов конца XIX — начала XX в. был таким же идейным лидером и создателем принципиальных общих концепций, каким для археологов «раннего и зрелого уваровского периода» был С.М. Соловьёв. Ученик В.Ф. Миллера, Ф.Ф. Фортунатова, Ф.Е. Корша, в 1887 г. Шахматов закончил историко-филологический факультет Московского университета и продолжал здесь свою деятельность до 1894 г., когда стал адъюнктом Академии наук; почётный член и член ряда русских и зарубежных научных обществ и академий, профессор Петербургского (с 1910 г.) и почётный доктор Пражского и Берлинского университетов, с 1897 г. — экстраординарный, а с 1898 г. — ординарный академик, Шахматов стал одним из крупнейших русских учёных-гуманитаров с мировым именем.
При безусловном различии конкретных научных интересов да и масштабов общественного признания многие характеристики, которые современные исследователи дают научной деятельности Шахматова, представляют интерес, так как вполне определяют предельные достижения той, основанной на сравнительно-историческом методе научной парадигмы, которую воплощали в своей деятельности археологи «индуктивно-аналитического направления». Так же, как позднее и этих археологов, Шахматова «упрекали либо за фактологичность изложения, либо, напротив, за чрезмерное увлечение общими концепциями в ущерб фактам, хотя на самом деле интуиция Шахматова всегда была основана на тщательно проработанном и увязанном с соседними элементами факте. Для научной деятельности Шахматова характерны: сравнительно-исторический метод в применении к любому уровню и материалу исследования; постоянное развитие этого метода; совершенствование исследовательской процедуры и системы доказательств, филигранная отработка всех деталей изыскания; привлечение максимального числа источников и предварительное критическое их сопоставление; точно и ясно сформулированное изложение достигнутых результатов, включавшее иногда и эксплицитное воспроизведение последовательности самого изыскания; строгое следование однажды принятой точке зрения на протяжении всего данного исследования, каким бы обширным оно ни было; благожелательная критичность по отношению к предшественникам и оппонентам, всегда обставлявшаяся доказательными аргументами и фактами; постоянное развитие собственных идей и методики исследования, приводившее иногда к отказу от собственных прежних выводов в пользу более широкой или исчерпывающей материал концепции». [124]
А.А. Шахматов блистательно реализовал отмеченные качества в фундаментальных исследованиях славянского языкознания, истории древнерусского летописания, методических разра-
ботках во всех областях славистики. Особое значение для археологов имели сформулированные им взгляды на раннюю историю восточного славянства, наиболее развёрнутое изложение получившее в работе «Древнейшие судьбы русского племени», опубликованной уже в советское время. Целый ряд положений Шахматова нашёл подтверждение и сохраняет силу и в наши дни: «Распадение славянства, его расселение, было связано с падением готского могущества, вызванным нашествием гуннов: освободившись из-под руки остроготов, славяне начинают двигаться на юг, но восточная их ветвь, анты, терпит поражение от южнорусских готов... Из данных языка обнаруживается, что общеславянская семья распалась сначала на две ветви: западную и южновосточную; позже вторая ветвь выделила из себя южную и восточную отрасли». Намеченные ранние этапы истории славянства, в VI в. испытавшего мощное давление кочевнической державы авар, обусловили первоначальную ограниченность славянского ареала в Восточной Европе: «Сожительство всего восточного славянства в тесной области, ограниченной Днестром и средним течением Днепра, должно было быть продолжительным; определяем его по крайней мере двумя столетиями (VII и VIII)». Освоение значительного пространства в лесной зоне Восточной Европы шло не только из юго-восточной, но и западнославянской областей: на это указывали выявленные Шахматовым «ляшские особенности в белорусском языке (следовательно, на территории дреговичей и радимичей) ...в языке западной отрасли кривичей, т.е. прежде всего древнепсковского наречия... самом имени вятичей... объясняю себе тем, что вятичи, как ляшское племя, называли сами себя wętic-, между тем как соседние с ними восточные славяне произносили wjatič-: ...укажу ещё на связь вятичей с радимичами... Севернорусское наречие издревле смешивает звуки ч и ц; такое смешение естественнее всего объяснить как результат влияния такого наречия, в котором звук ч исчез совсем, заменившись через ц; как указано выше, восточноляшские племена имели в своем говоре именно эту звуковую особенность: следовательно, становится вероятным именно их влияние на севернорусов, некогда сосредоточивавшихся в северном Поднепровье». В ходе расселения славяне устанавливают разнообразные отношения не только с тюркскими (на юге), но в лесной зоне — с балтскими («литовскими») и финскими племенами, а также норманнами (присутствие которых подтверждается, в частности, наряду с летописью археологическими данными Гнёздовского могильника, владимирских и ярославских курганов). Шахматов мог уже опереться на заключения археологов и при выводе о том, что «торговый путь через Волгу открыт скандинавами раньше, чем путь на юг через Днепр; и этот волжский путь имел для шведской торговли большее значение». Крупномасштабная общая картина ранних этапов государственного развития восточного
славянства позволяла сформулировать и непротиворечивое решение «варяжского вопроса». Оценивая значение похода Олега во главе многоплеменного войска с участием варягов, объединившего в 882 г. Северную и Южную Русь в единое Древнерусское государство, Шахматов отмечал: «В создании нового государства видное значение имела земля (имеется в виду общинная, территориальная организация славянства. — Г.Л.): победили киевского князя (Аскольда. — Г.Л.) варяги, но сами они были наёмниками славян, кривичей и других северных племён, отстаивавших свои земли от чужеземного порабощения. Существенное значение имеет при этом то обстоятельство, что как русские дружинники, так и сменявшие их варяжские выходцы быстро ассимилировались на далёком от Скандинавии юге в восточнославянской этнографической среде. Они становились славянами; это выдвигало державность славянского элемента в русском государстве и естественным образом ставило перед киевским князем задачу покорения всех восточнославянских племён. Уже в течение X века завершается процесс объединения восточнославянских земель вокруг Киева, получающего в силу своего положения возможность стать не только политическим, но и культурным центром для всего Поднепровья и прилегающих к Поднепровью земель». [125] Формировавшаяся на протяжении десятилетий, шахматовская концепция не только подтверждала достоверность спицынской схемы «расселения древнерусских племён», но и раскрывала глубокие перспективы дальнейшего археолого-исторического изучения ранней истории славянства. До конца 1920-х годов по существу славяно-русская археология основывалась именно на этой концепции.
За пределами славянской тематики лингвистика, однако, не могла предложить общей схемы этнокультурного процесса, равнозначной шахматовской. Реконструкции более ранних этапов, не освещённых данными летописей, вызывали дискуссии в среде самих лингвистов. Принимая на вооружение несомненные достижения сравнительной индоевропеистики, археология неизбежно испытывала и её же ограничения. Чем дальше вглубь первобытности, тем менее эффективной становилась стратегия «индуктивно-аналитического подхода», тем более описательными, формальными и нестрогими оказывались его результаты.
«Дедуктивно-классификационный подход», к концу 1890-х годов уже наметившийся в разработках В.А. Городцова, стремился снять эти ограничения путём создания строгой и связной системы классификационных понятий. Основываясь на «общих законах» (к постулированию которых Городцов обратился, в основном, уже в советское время), эта система должна была охватить иерархией понятий вещественный материал во всём хронологическом диапазоне археологии. Именно так ставилась им задача уже в 1899 г. в «Русской доисторической керамике». Той же стратегии Городцов придерживался и в дальнейшем:
«он уподобил археологическую систематику биологической, построил жёсткую схему для древовидных классификаций с универсальной иерархией признаков и закрепил за терминами определённые значения». [126] Основу классификации, по Городцову, составляло понятие «тип», как совокупность предметов, сходных по материалу (веществу), форме и назначению: принципами деления на категории служили «назначение» (функция) типов, на группы — «вещество» (материал), на «отделы» — форма, присущая нескольким типам, и на типы — форма, «присущая только одному типу». Принципы эти неоднократно применялись В.А. Городцовым для систематизации конкретного археологического материала. Анализируя теоретическую обоснованность схемы Городцова в начале 1980-х годов, В.Ф. Генинг отмечал, что в ней «по-видимому, уловлена в какой-то мере закономерность генетического развития орудий труда». [127] Ограниченность применения городцовской типологической схемы и в целом его системы теоретических взглядов другой советский исследователь — В.Д. Викторова объясняет эклектичностью её философской базы. [128] Наконец, Л.С. Клейн выделяет главный недостаток городцовской и генетически связанной с ней классификационной схемы современных американских исследователей: «Её создатели стремились совместить в ней качества обеих форм группировки — служебной (жёсткость, универсальность, логическую взаимоисключаемость ячеек и т.д.) и исследовательской (естественность, отражение реальной сети взаимосвязей и т.д.). Даже для биологии совмещение их затруднительно, хотя в норме биологические виды не скрещиваются. Применительно же к культурному материалу с его многообразием переходных и смешанных форм такие задачи и вовсе несовместимы. При попытках совместить неизбежно страдают обе цели — не достигается ни та, ни другая». В исторической перспективе, однако, осознание этого противоречия уже во второй половине XX в. привело к обособлению «гипотезно-дедуктивной» стратегии, оперирующей понятием «условного типа» (противостоящего как «эмпирическому», так и «культурному»). [129] Следовательно, методологические поиски В.А. Городцова составляли вполне закономерный и достаточно результативный этап развития научного мышления. Ограниченность его определялась механистическим переносом принципов и методов, выработанных в естественных науках, прежде всего в биологии, на культурно-исторический, археологический материал. В то же время, формально-типологический метод развивался В.А. Городцовым в известной мере как противопоставление типохронологическим периодизациям эволюционистов (в частности, Мортилье, с которым он остро полемизировал), базировавшихся на естественнонаучной парадигме.
«Естественнонаучный подход» в российской археологии, наиболее полно осваивавший и достижения, и проблемы западноев-
ропейских эволюционистов, хотя и не мог не вытеснить «бытописательскую парадигму» уваровского периода, не активно конкурировать с формирующимися и преемственно с ней связанными подходами нового поколения, не был, однако, заглушён полностью. Сохранялся научный авторитет Д.Н. Анучина, постоянно знакомившего российскую научную среду с последними зарубежными достижениями. К обсуждению актуальных проблем периодизации палеолита под несомненным воздействием эволюционистов обращались и В.А. Городцов, и позднее А.А. Спицын. В Петербургском университете с 1888 г. под председательством А.А. Иностранцева действовало Антропологическое общество, с 1893 г. такое же общество было создано проф. А.И. Таренецким при Военно-медицинской академии. Здесь объединялись исследователи новых поколений, в первом десятилетии XX в. составившие небольшую, но вполне заметную археологическую школу, представители которой стали ведущими учеными советского времени.
Фёдор Кондратьевич Волков (1847-1918) стал её лидером. Этнограф, антрополог, археолог, литератор (в украинской печати подписывавшийся «Хв. Вовк»), он длительное время провёл в эмиграции. Однако его археологические публикации появились уже в 1899 г. (в львовских «Материалах до Украинсько-Руськой Етнологии»). Именно он, пересмотрев резко заниженные датировки В.В. Хвойки и В.Б. Антоновича для Кирилловской стоянки, правильно определил её слой как мадленский; верхнепалеолитическому мадленскому искусству была посвящена и серия его публикаций начала 1900-х годов. После революции 1905 г. Ф.К. Волков вернулся в Россию и фактически возглавил в Петербургском университете «палеоэтнологическое направление» исследований. Учениками Ф.К. Волкова были такие крупные советские учёные, как П.П. Ефименко, С.И. Руденко, Д.А. Золотарёв, с тем же кругом антропологов и археологов были связаны Ю.Д. Талько-Гринцевич (исследователь Сибири), А.В. Елисеев (первый русский археолог, посетивший страны Северной Африки), ведущий советский исследователь палеолита в предвоенные десятилетия Г.А. Бонч-Осмоловский. [130]
Наиболее перспективное во многих отношениях, это течение в российской археологии, однако, не только оформилось позднее других. При сложившейся организационной структуре оно практически не оказывало почти никакого воздействия на развитие и взаимосвязь остальных направлений и, таким образом, ни одно из них не было в состоянии эффективно решить весь комплекс неотложных задач очередного этапа развития отечественной археологической науки.
[63] Чехов А.П. Собр. соч.: В. 8. т. Т. 3. М., 1970. С. 501.
[64] Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 331.
[65] Репин И.Е. Воспоминания, статьи и письма из-за границы. СПб., 1901. С. 247.
[66] Стернин Г.Ю. Изобразительное искусство в художественной жизни России на рубеже XIX и XX веков // Русская художественная культура конца XIX — начала XX веков (1895-1907). Кн. 2. Изобразительное искусство. Архитектура. Декоративно-прикладное искусство. М., 1969. С. 8.
[67] Изгой Р. (Н. Рерих). Наши художественные дела // Искусство и художественная пормышленность. 1898. №1-2. С. 119.
[68] Цит. по: Лапшин Н.П. «Мир искусства» // Русская художественная культура. М., 1969. Кн. 2. С. 130.
[69] Рерих Н.К. Искусство и археология. СПб., 1913. С. 7.
[70] См.: Короткина Л.В. Рерих в Петербурге — Петрограде. Л., 1985; Рериховский сборник. Извара, 1989. С. 58.
[71] Вергей В.С. Развитие археологической науки в БССР (1917-1941): Канд. дис. Минск, 1982. С. 5-12.
[72] Александров А.А. К 100-летию основания Псковского археологического общества. // Научн. семинар «Археология и история Пскова и Псковской земли»: Тез. докл. Псков, 1980. С. 3-4.
[73] Колчин Б.А., Янин В.Л. Археологии Новгорода 50 лет. // Новгородский сборник. 50 лет раскопок Новгорода. М., 1982. С. 8-9.
[74] Суслова А.В. Некоторые данные к характеристике деятельности академика архитектуры В.В. Суслова в области реставрации и охраны новгородских памятников (1891-1900 гг.) // НИС. 9. Новгород, 1959. С. 191-218.
[75] Лесман Ю.М. Древнерусские курганы Верхней Волги (по материалам дореволюционных раскопок) // ЦИКСЗ. Л., 1977. С. 106-112.
[76] Крачковский И.Ю. Очерки по истории русской арабистики. М.;Л., 1950. С. 186-187.
[77] Формозов А.А. Страницы... С. 158.
[78] Цит. по: Армения и русские археологи. С. 52-53.
[79] Крачковский И.Ю. Очерки... С. 188.
[80] Лунин Б.В. Из истории русского востоковедения и археологии в Туркестане. Туркестанский кружок любителей археологии (1895-1917). Ташкент, 1958.
[81] Протоколы ТКЛА. III. 1897-1898. С. 135.
[82] Толстой И.И., Кондаков Н.П. Русские древности в памятниках искусства. Вып. II. СПб., 1889. С. 1.
[83] Бабаев Э.Г. «Анна Каренина» // Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 20 т. Т. 9. М., 1963. С. 479.
[84] Цит. по: Залкинд Н.Г. Московская школа... С. 49.
[85] Штернберг Л.Я. Д.Н. Анучин как этнограф // Этнография. 1926. 1-2. С. 191.
[86] Токарев С.А. Основные этапы развития русской дореволюционной и советской этнографии // СЭ. 1951. 2. С. 173-174.
[87] Анучин Д.H.: 1) Ископаемый человек в Азии и Африке // Новый Восток. Вып. 2. 1922; 2) Происхождение человека. М., 1922.
[88] Анучин Д.Н. Новейшая классификация доисторических эпох Г. де Мортилье // АИЗ. VI. М., 1898. С. 7-23.
[89] Анучин Д.H.: 1) К истории искусства и верований у Приуральской чуди. Чудские изображения летящих птиц и мифических крылатых существ; 2) О культуре костромских курганов и особенно о находимых в них украшениях и религиозных символах // МАВГ. III. M., 1899.
[90] Анучин Д.H. О некоторых формах древнейших русских мечей // Труды VI АС (1884). М., 1886.
[91] Карташева К.С. Дороги Льва Мечникова. М., 1981. С. 18.
[92] Гродецкий Mих. Л.И. Мечников (биографический очерк) // Мечников Л.И. Цивилизация и великие исторические реки. Пг., 1899. С. 17.
[93] Плеханов Г.В. Соч. T. VII. М.;Л., 1925. С. 27-28.
[94] Мыльников А.С. Пыпин // СДР. С. 286-289.
[95] Веселовский Н.И. История РАО. С. 10-11.
[96] Фармаковский Б.В. Н.И. Веселовский — археолог // ЗВО РАО. 25 (1917-1920). Пг., 1921. С. 369-370.
[97] Артамонов М.И. Сокровища скифских курганов. Прага, 1961. С. 42.
[98] Фармаковский Б.В. Веселовский — археолог. СПб., 1921. С. 383-384.
[99] Равдоникас В.И. За марксистскую историю. С. 34.
[100] Монгайт А.Л. Археология Западной Европы. Л., 1930. С. 40-42, 47.
[101] Лазарев В.Н. Никодим Павлович Кондаков (1844-1925). M., 1925. С. 7 сл.
[102] Кондаков Н.П. Македония. СПб., 1909. С. 59.
[103] Жебелёв С.А. Археолог-энтузиаст (памяти А.А. Спицына) // СА. X. 1948. С. 9-10.
[104] Седов В.В. Восточные славяне в VI-XIII вв. // Археология СССР. М., 1982. С. 6.
[105] Mонгайт А.Л. Археология Западной Европы. С. 35-36.
[106] Тихонов И.Л. Организация и развитие археологического отделения ЛГУ (1917-1936) // Вестн. Ленингр. ун-та. 1988. №3, вып. 16. С. 8-16.
[107] Клейн Л.С. Происхождение донецкой катакомбной культуры: Автореф. канд. дис. Л., 1968. С. 3.
[108] Генинг В.Ф. Очерки по истории советской археологии. С. 71.
[109] Илларионов В.Т. К истории изучения палеолита. С. 184.
[110] Клейн Л.С. Понятие типа в современной археологии // Типы в культуре. Методологические проблемы классификации, систематики и типологии в социально-исторических и антропологических науках. Л., 1979. С. 54.
[111] Русанова И.П. Славянские древности VI-IX вв. между Днепром и Западным Бугом // САИ E1-25. М., 1973. С. 5.
[112] Беленицкий А.М., Зеймаль Е.В. Рукописное наследие Я.И. Смирнова // Художественные памятники и проблемы культуры Востока. Л., 1985. С. 9-14.
[113] Карасёв А.Н. Борис Владимирович Фармаковский // КСИИМК. XXII. 1948. С. 5-7.
[114] Бахмат К.П. Вiкентiй Вячеславович Хвойка (до 50-рiччя з дня смертi) // Археологiя. XVII. 1964. С. 188-195.
[115] Бочаров Г.H. Деятельность художников по возрождению народного искусства // Русская художественная культура конца XIX — начала XX века (1895-1907). Кн. 2. С. 346-352; Барановская М.И. Иван Фёдорович Барщевский (1851-1948) // КСИИМК. XXIV. 1949. С. 121-122.
[116] Кондаков Н.П. Византийские церкви и памятники Константинополя // Труды VI АС. Т. III. Одесса, 1887. С. 228.
[117] Кондаков Н.П. Византийские эмали. СПб., 1892. С. 254.
[118] Кондаков Н.П. Памятники христианского искусства на Афоне. СПб., 1902. С. 59.
[119] Лазарев В.H. Никодим Павлович Кондаков. С. 23-25.
[120] Клейн Л.С. Понятие типа... С. 62-72.
[121] Кондаков Н.П. Русские клады. С. 5.
[122] Кондаков Н.П. О научных задачах истории древнерусского искусства // ПДП. CXXXII. 1899. С. 10.
[123] Седов В.В. Восточные славяне. С. 6.
[124] Колесов В.В. Шахматов // СДР. С. 366-399.
[125] Шахматов А.А. Древнейшие судьбы русского племени. Пг., 1919. С. 11, 12, 22, 38-39, 44-45, 63.
[126] Клейн Л.С. 1) Понятие типа... С. 54; 2) Археологическая типология. Л., 1991. С. 123-231.
[127] Генинг В.Ф. Очерки по истории советской археологии. С. 156.
[128] Викторова В.Д. Археологическая теория в трудах В.А. Городцова // АИУЗС. Свердловск, 1977. С. 13.
[129] Клейн Л.С. Понятие типа. С. 54, 66.
[130] Илларионов В.Т. К истории изучения... С. 183; Левин М.Г. Очерки... С. 120-129; Залкинд Н.Г. Московская школа... С. 63-70; Генинг В.Ф. Очерки... С. 209.
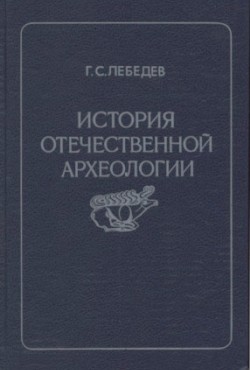 Г.С. Лебедев
Г.С. Лебедев