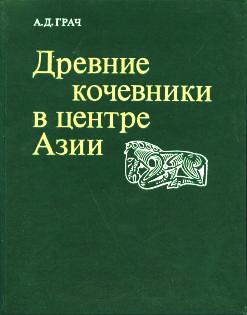 А.Д. Грач
А.Д. Грач
Древние кочевники в центре Азии.
// М.: ГРВЛ. 1980. 256 с., вкладки.
Глава VII. Верования и погребальный ритуал.
Изучение идеологии племён Центральной Азии скифского времени является задачей, сложность которой определяется прежде всего полным отсутствием письменных источников, прямо свидетельствующих об идеологии, верованиях и погребальном ритуале указанного региона. Это обстоятельство практически делает главным источником для освещения этих вопросов археологические материалы. Сказанное, однако, вовсе не исключает, а, напротив, предполагает привлечение нарративных данных, касающихся синхронных племён Великого пояса степей скифского времени.
Специфика археологических данных определяет фрагментарность изучения вопросов верований древних кочевников. Это обстоятельство диктует комплексный подход к решению поставленной задачи, в частности обязательное привлечение данных, имеющихся в распоряжении этнографии.
Исследования, произведенные в 50-70-е годы в Туве, значительно расширили возможности изучения духовной жизни людей скифского времени: в дополнение к многочисленным погребальным комплексам, которые и раньше обычно давали основной материал по этой проблеме, в Центральной Азии были открыты и исследованы храмы солнца, сооруженные древними кочевниками.
ХРАМЫ СОЛНЦА ДРЕВНИХ КОЧЕВНИКОВ. ^
Особое значение имеют раскопки Улуг-Хорума — наиболее крупного по масштабам кургана-храма Тувы (подробную характеристику памятника см. в прил. 1). Результаты исследований этого монументального комплекса солярного культа необходимо рассмотреть на фоне общих сведений о культе солнца у древних кочевников Великого пояса степей.
В плане саглынский Улуг-Хорум представляет собой гигантское кольцо с 32 «спицами»-лучами, т.е. как бы солнце, распластанное в степи. Хорошо известно, что колесо (как и символ в виде круга с точкой в центре, а также древний знак-свастика) является одним из наиболее распространённых у целого ряда древних и почти современных народов символов, обозначающих солнце [Липс, 1954, с. 199; Штернберг, 1936, с. 373; Миллер, 1933, с. 125-157; Montelius, 1905]. Колесо — это не только обозначение собственно солнца, но и символ его движения. В самом деле, великое светило, от восхода до заката совершающее зримое людям движение по небосводу, имело прямое сходство с колесом: чётко видимые при соответствующих метео- и световых условиях солнечные лучи составляли в представлении людей спицы солнечного колеса, появляющегося утром на востоке и скрывавшегося вечером на западе.
Миниатюрные поделки в виде колеса, справедливо интерпретируемые исследователями как символы солярного культа, были распространены в скифское время очень широко, — они обнаружены среди собственно скифских древностей (например, в Каменском городище) и в античных городах Северного Причерноморья, в частности в Ольвии [Граков, 1962, с. 92]; найдены эти предметы в памятниках ананьинской культуры [Talgren, 1919, с. 154], в савроматских погребениях [Смирнов, 1964], среди памятников финно-угров [Голубева, 1978].
Какова семантика сотен кольцевых выкладок, зафиксированных в непосредственном окружении саглынского солнечного храма? С нашей точки зрения, не исключена возможность того, что они обозначают систему звёзд и планет, и солнце — Улуг-Хорум — предстаёт таким
(62/63)
образом в окружении обширной космической системы. [1]
Выше уже указывалось, что Улуг-Хорум, хотя и является наиболее масштабным из известных в Туве курганов-храмов, вовсе не единичен. Два аналогичных памятника меньших размеров представлены в одной с ним группе, аналогичные курганы имеются в других пунктах Саглынской долины (в том числе и в Саглы-Бажи; один из них раскопан нами в 1960 г.) и на территории Сагильского сумона МНР — по левому берегу р. Дужерлиг. Представлены они и на крайнем юго-западе Тувы — в Монгун-Тайге, в частности в долине р. Моген-Бурен.
Исследователями ранее не предполагалась возможность строительства подобных курганов-храмов кочевниками. Однако Улуг-Хорум и серия аналогичных ему памятников являются неопровержимым свидетельством того, что уже в раннескифское время сооружение курганов-храмов солнцепоклонников велось в весьма широких масштабах. Наличие солнечных храмов у древних кочевников Центральной Азии доказывает, что религиозная идеология, связанная с солнечным культом, была широко распространена.
Культ солнца имел широкое распространение в сако-массагетском мире. Геродот сообщает о массагетах: «Из богов чтут только солнце, которому приносят в жертву лошадей. Смысл жертвы этой тот, что быстрейшему из всех богов подобает быстрейшее животное» (Геродот, I, 216; см.: [Геродот, 1888, с. 114]). Страбон в полном согласии со свидетельством предшественника указывает: «Богом они почитают только солнце и приносят ему в жертву лошадей» (Страбон, XI, 86).
Ю. А. Рапопорт первый обратил внимание на то, что сообщение Геродота совершенно совпадает с образом Авесты (Видевдат, XXI, 20): «Солнце с быстрыми конями» [Rappoport, 1963, с. 130-131]. Этот вопрос был рассмотрен и К. Ф. Смирновым, который также сопоставил текст Авесты с сообщением Геродота, но пришёл к более осторожному, нежели другие авторы, выводу о том, что мировоззрение саков и савроматов «содержало элементы зороастризма» [Смирнов, 1964, с. 250-253].
Подробно и разносторонне данный вопрос был изучен Б. А. Литвинским, который привёл яркие сопоставления текстов, археологических материалов, этнографических и фольклорных данных. Анализируя тексты Авесты, Б. А. Литвинский особое внимание обратил на выражение: «Сияющее солнце, бессмертное, богатое (обладающее) быстрыми конями (aurvat. aspem) мы почитаем» [Литвинский, 1972, с. 149-155; здесь же см. литературу вопроса]. Б. А. Литвинский указывает, что, судя по текстам Авесты, «древние иранцы... представляли себе движение солнца по небу в виде сверкающей повозки, в которую запряжены небесные кони»; белые небесные кони связываются с солнечным богом и в Ригведе.
Как уже указывалось, на внешних сторонах крепиды кургана-храма имеются изображения лошадей, комбинирующиеся с изображениями горного козла и архара. Изучение зафиксированных нами двух фигур лошадей не оставляет сомнений, что здесь изображены не местные центральноазиатские лошади, а тонконогие поджарые скакуны с высокими шеями, область происхождения которых находилась далеко на Западе.
Сцены, обнаруженные при исследовании саглынского Улуг-Хорума, и стилистически и композиционно во многих важнейших чертах совпадают со знаменитыми изображениями, обследованными в 1946 г. экспедицией А. Н. Бернштама в Киргизии в 25 км к северо-западу от г. Оша, вблизи селения Араван, а также с изображениями, открытыми на скалах Айрымачтау, в 8 км к северо-западу от г. Ош [Бернштам, 1952, с. 222-230; Бернштам, 1948а, с. 115-161; Заднепровский, 1962, с. 125-128].
Араванские изображения состоят из двух объектов, расположенных на отдельных плитовых поверхностях. Первый объект включает изображения двух лошадей вправо; второй объект более сложен и включает, как и первый, изображения двух лошадей вправо и, кроме того, изображения горных козлов, благородного оленя и человеческие фигуры, которые, по интерпретации, предложенной А. Н. Бернштамом, исполняют культовый танец. Что касается изображений горных козлов, то А. Н. Бернштам трактует их не как объекты охоты, а как солярно-космические символы. Тонко проанализировав изображения лошадей, А. Н. Бернштам справедливо связывает их с кушанским кругом и подчеркивает их отличие от ло-
(63/64)
шадей Монголии и Передней Азии. А. Н. Бернштам приходит к выводу, что на араванских памятниках мы видим изображения высокоценимой на Востоке и в Китае местной породы даваньских лошадей — знаменитых «шаньма» — чистокровных лошадей, потомков небесных коней тяньма (А. Н. Бернштам ссылается на «Шицзи», 123, л. 3, 14а).
Изображения Айрымачтау стилистически совершенно аналогичны араванским. Однако, как отмечает Ю. А. Заднепровский, здесь изображения лошадей (их в Айрымачтау более 30) комбинируются не только с фигурами горных козлов: есть сцена, где композиция включает наряду с фигурами лошадей и фигуры оленей с подогнутыми ногами и ветвистыми рогами [Заднепровский, 1962, с. 126] (последние, очевидно, выполнены в скифском зверином стиле). Аналогичные араванским изображения лошадей открыты также среди петроглифов Сармичсая и Башкызылсая [Кабиров, 1971, с. 410-411; Кабиров, 1974, с. 18, 23-24]. Тонконогие лошади с «лебедиными» шеями, являвшиеся предметом алчных вожделений древнекитайских полководцев, ходивших походами на Давань, были и в табунах кочевых властителей. Напомним, что лошади этой породы найдены наряду с типичными центральноазиатскими лошадьми в Больших Пазырыкских курганах на Алтае, т.е. в непосредственной близости от Тувы и Северо-Западной Монголии. В. О. Витт, исследователь останков лошадей, обнаруженных в Пазырыке, полагает, что лошади эти были выведены внутри местной породы, и отвергает возможность гипотезы об импорте их из отдалённых стран [Витт, 1952, с. 184; ср.: Руденко, 1953, с. 71-72]. М. П. Грязнов, напротив, полагает, что это были лошади, полученные кочевыми владыками из Средней Азии, дорогие кони, содержавшиеся на зерновых кормах и особо обихаживаемые (в то же время М. П. Грязнов фиксирует, что в день своей смерти лошади Первого Пазырыкского кургана питались травой и пережили период весенней бескормицы). М. П. Грязнов подметил сходство некоторых существенных черт ухода за тонконогими скакунами пазырыкских властителей с чертами, сохранившимися до современности у туркменских коневодов, — подрезку волос по краям ушей, в ушных раковинах, на щеках, путовых суставах и на репице хвоста [Грязнов, 1950, с. 51].
Стиль изображений Улуг-Хорума и памятников араванского круга, как и внутрикомпозиционные особенности едины. В то же время необходимо подчеркнуть, что если связь араванских изображений с солнечно-космическим культом могла устанавливаться в общем гипотетически, то изображения Улуг-Хорума, входящие в общий комплекс храма солнца, фиксируют эту связь вполне определенно. Свидетельства письменных источников — от Авесты и Ригведы до Геродота — о взаимосвязи культа солнца с культом коня получают теперь материальное подтверждение.
Интерпретацию, которую А. Н. Бернштам дал смысловому значению изображений горных козлов, зафиксированных среди петроглифов араванской группы, аргументированно поддержал А. П. Окладников, который справедливо напомнил, что связь образа горного козла с солярно-космическим культом относится к числу явлений, общих для обширных пространств Центральной и Средней Азии. Араванско-улуг-хорумская линия этого сюжета простирается до пределов Забайкалья; среди петроглифов этого региона А. П. Окладниковым были открыты весьма многочисленные изображения горных козлов и архаров, комбинирующихся с солярными знаками (местонахождения Усть-Кяхта — гора с маяком, Бага-Заря, Табангутское обо) [Окладников, Запорожская, 1969, с. 22-28, 30-31, табл. 15, 1, 18, 2, 6, 19, 20, 5, 21, 22, 2, 24, 2, 27, 2, 3, 30, 1, 31, 4, 34, 37, 2, 3, 39, 2, 40, 1, 42, 4, 43, 1; Окладников, Запорожская, 1970, с. 146]. Солярные знаки, обнаруженные среди петроглифов Забайкалья, распадаются на две основные группы — круги с крестообразной разметкой внутренних линий и круги с более множественным количеством лучей солнечного колеса. Существенно, что комбинации других животных с солярными знаками находятся по сравнению с комбинациями солярных знаков и горных козлов в несомненном меньшинстве. Нельзя не отметить также, что среди петроглифов Забайкалья, исследованных и изданных A. П.Окладниковым, есть изображения лошадей явно не местной породы — скакунов с «лебедиными» шеями, расположенные по соседству с солярными знаками [Окладников, Запорожская, 1970, с. 22, табл. 15, 2].
Материалы исследования саглынского Улуг-Хорума позволяют вновь вернуться к сложной проблеме генезиса «солнечной» религии у племён скифо-сакского мира и к вопросу о «подоснове» зороастризма у древних иранцев.
Большинство исследователей сходятся во мнении о хронологической многослойности зороастризма (см. по этому поводу: [Лившиц, 1963, с. 232-233; Литвинский, 1972, с. 151]). «Авеста, — пишет Б. Г. Гафуров, — сложный сплав разнородных и разновременных элементов» [Гафуров, 1972, с. 60; ср.: Гафуров, 1952, с. 27-30]. К важному заключению пришёл B. И. Абаев, который констатировал, что «зороастризм зародился в непосредственном контакте со скифской стихией и при известном уча-
(64/65)
стии этой стихии» [Абаев, 1956, с. 39]. Широкое распространение получила концепция о появлении зороастризма в Средней Азии с приходом сако-массагетских племён.
Кому посвящались храмы солнца древних кочевников, обнаруженные в Центральной Азии, — абстрагированному солнечному образу или персонифицированному божеству? Вопрос этот в значительной мере остается пока открытым. Следует, однако, напомнить суждение Б. А. Литвинского о «солнечном боге» массагетов: с точки зрения этого исследователя, было бы рискованно отождествлять этого бога только с Ахура-Маздой, это мог быть Митра или божество комплексное, в котором слиты черты Ахура-Мазды и Митры. В связи с возможностью посвящения солнечных храмов типа Улуг-Хорума персонифицированному божеству нельзя не обратить самое пристальное внимание на то, что центральные наземные сооружения увенчивались оленными камнями совершенно определённого типа — с «ожерельями», круговыми выбоинами, изображениями животных и предметов вооружения. Не были ли эти стелы антропоморфным отображением образа солнечного божества? Вопрос этот, несомненно, заслуживает дальнейшей разработки.
Солнечные храмы древних кочевников предстают как памятники сложившейся и весьма разработанной идеологической системы. В свете материалов исследований этих храмов в Туве можно считать установленным, что в ареал солярных культов, столь распространённых в индо-иранском мире, входила и Центральная Азия.
«ОГНЕВОЙ» ПРИБОР ИЗ САГЛЫ И ВОПРОСЫ РАСШИФРОВКИ ЦИРКУЛЬНОГО ОРНАМЕНТА. ^
Существенное значение для понимания культовых представлений носителей саглынской культуры имеет анализ циркульного орнамента по планке-основе прибора для добывания огня из могильника Саглы-Бажи II (первую публикацию см.: [Грач, 1966в, с. 28-32].
Исследователи циркульного орнамента справедливо заключают, что он имеет широчайшее временное и территориальное распространение [Гущин, 1939, с. 63; Иванов, 1963, с. 464-473].
Древнейшие из числа известных в Сибири предметов с циркульным орнаментом были найдены в неолитических могильниках Прибайкалья — игольник из трубчатой кости птицы из могильника Циклодром и костяное острие из Китойского могильника [Окладников, 1950, с. 390, рис. 31].
Очень древние находки предметов с циркульным орнаментом были найдены при исследовании памятников древних земледельцев Южной Туркмении. И. Н. Хлопин полагает, что культовые идеи, отразившиеся в сооружении круглых жертвенников (основа их — круг с центровой точкой), возникли в конце периода Намазга I, в абсолютной хронологии — во второй половине IV тысячелетия до н.э. Этот орнаментальный сюжет продолжал существовать и в периоды Намазга II и Намазга III, когда он наносился на керамику и женские статуэтки [Хлопин, 1964а, с. 163-165; Хлопин, 19646, с. 48-51]. Мотив этот в южноземледельческих культурах Средней Азии сохраняется и в эпоху бронзы; знак наносился на предметы с помощью штампов-матриц [Хлопин, 1978, с. 34-37].
Циркульный орнамент весьма широко представлен на предметах скифского времени с территории Сибири. В Минусинской котловине он имеется на вещах тагарской культуры — костяных гребнях [Теплоухов, 1927, табл. 1, 7] и так называемых головных ножах (могильник Туран I, раскопки автора). В Туве роговые пряжки с циркульным орнаментом найдены в кургане 8 могильника Саглы-Бажи II и в кургане 2 могильника Даган-Тэли I.
В иероглифике древнего Египта кружок с центровой точкой выражал понятие «солнце» и был в числе иероглифов, обозначавших конкретные предметы. Этот иероглиф применялся и при образовании письменных знаков, использовался в переносном значении: в необходимых случаях иероглиф «солнце» передавал и понятие «день» [Истрин, 1961, с. 108-110; Добльхофер, 1963, с. 98, рис. 27; Авдиев, 1960, с. 7].
В древнекитайской иероглифике фигурировал всё тот же древний символ, тоже обозначавший солнце (правда, с течением времени знак этот сильно видоизменился). Кружок с центральной точкой можно видеть и среди пиктограмм на ритуальных бронзовых сосудах иньской и чжоуской эпох (II тысячелетие до н.э.) [Истрин, 1961, с. 105, 110, рис. 18-21]. Этот же солярный знак представлен и среди позднейшей китайской орнаментики.
Первое обобщение этнографических материалов по циркульному орнаменту у народов Сибири было произведено С. В. Ивановым [Иванов, 1963, с. 464-473]. Собранные им данные неопровержимо показывают, что у многих народов Сибири орнаментальный символ в виде кружка с центровой точкой также обозначал солнце. Этот солярный символ зафиксирован в орнаментике алтайцев (рисунки на шаманских бубнах), хакасов (круг с точкой — солнце, точка в центре — душа солнца), бурят (тамги — знаки собственности), якутов (подвески на
(65/66)
шаманском костюме), хантов (фигура игры — деревянный круг с точкой в центре), манси (украшения берестяной посуды), нанайцев (знаки на шапках, которые надевались на больных по указанию шамана), нивхов (знаки на деревянных ножах, употреблявшихся на медвежьем празднике) и других народов.
Изучение археологических и историко-этнографических материалов приводит к выводу, что циркульный орнамент является мировым орнаментальным мотивом, представленным у народов Европы, Азии и Америки. Этот солярный символ возник на разных материках земного шара конвергентно.
«Огневой» прибор из Саглы стал находкой, которая позволила предложить конкретизированную расшифровку древнего смыслового значения циркульного мотива. Напомним, что этот орнамент нанесен как на «рабочей» стороне огневого прибора, так и на обратной его стороне, где приложение лучкового сверла не предполагалось; на «рабочей» стороне кружки с точкой в центре нанесены как раз в ряду сверлин, и можно думать, что они были и на местах рабочих сверлин. Таким образом, «производственное» и культовое значения как бы слиты на саглынском приборе воедино.
Н. А. Рубакин, известный просветитель и исследователь явлений, которые в течение многих столетий было принято считать сверхъестественными, сделал весьма любопытные наблюдения над некоторыми зрительными эффектами, связанными с изображением концентрических кругов с точкой в центре. Действительно, если взять в руки предмет, на котором нанесено циркульное изображение, и потрясти его несколько секунд, то, когда глаз слегка устанет, появляется впечатление, будто круг вращается с большой скоростью [Рубакин, 1965, с. 113-114, рис. 11]. Добавим к этому, что, по-видимому, данное явление сыграло не последнюю роль в том, что циркульный мотив стал не только символом солнца, но и символом вращения — ведь сверло при добывании огня вращалось.
С учётом сказанного выше циркульный орнамент на «огневом» приборе расшифровывается как символ вращения, дающего тепло и свет, возжигающего из искр огонь домашнего очага. Нельзя в связи с этим ещё раз не обратить внимание на семейный характер погребальной камеры кургана 19, в которой была обнаружена уникальная находка и которая, как и другие усыпальницы саглынской культуры, близко имитировала бревенчатые зимние жилища древних кочевников.
Значение огня в быту и идеологии народов мира Ю. Липс охарактеризовал так: «Существование дома, племени и самой человеческой жизни было бы невозможно без благословенного огня, этого таинственного брата солнца. Значение огня настолько всеобъемлюще, что нет ни одного народа на земле, который в своих сказаниях и преданиях не пытался бы объяснить его происхождение. Огонь представляется настолько большой ценностью, что, согласно большинству мифов, люди похищают его у богов, которые его ревностно оберегали и отнюдь не собирались делиться им со смертными» [Липс, 1954, с. 34].
Орнамент на «огневом» приборе из Саглы свидетельствует, что семантика циркульного орнамента вовсе не исчерпывалась только солярной символикой — семантическое содержание мотива было гораздо шире и многообразнее. Кружок с точкой как символ солнца — это только часть весьма дифференцированной символики. «Огневой» прибор древних саглынцев показывает, что циркульный орнамент в древности являлся и символом добывания огня.
Графически простой, а в древности столь значительный символ бытовал и после окончания скифского времени. Так, мы видим кружок с точкой в орнаменте древнетюркской эпохи, — этот знак наносился на рукояти ножей, и седельные луки (могильник Кудыргэ на Алтае) [Руденко, Глухов, 1927, с. 44-45, рис. 11]г на роговые обкладки берестяных колчанов (Монгун-Тайга, долина р. Каргы) [Грач, 1960б, рис. 63-65]; мотив этот был представлен и в орнаментике енисейских кыргызов [Киселёв, 1951, табл. IX (надо: LIX, — П.А.), 26; Нечаева, 1966, рис. 22, 5].
Солярный символ в виде кружка с точкой в центре продолжает жить в орнаментах многих народов мира, обозначая солнце, свет, горение, тепло, огонь, возникновение огня. В одних случаях знак сохраняет эту многообразную смысловую символику, в других случаях он утрачивает свое значение и превращается в орнаментальный мотив, лишённый смысла.
В наши дни данный символ присутствует среди астрономических знаков, обозначая солнце, и каждый может видеть этот знак ежедневно на отрывных листках своего календаря.
К РАСШИФРОВКЕ СЕМАНТИКИ АНТРОПОМОРФНЫХ ЖЕНСКИХ ПОДВЕСОК. ^
Среди инвентаря, сопровождавшего погребённых в камерах-срубах саглынской культуры, была обнаружена серия своеобразных подвесок, вырезанных из кости. Эти подвески, несмотря на некоторые различия в деталях, совершенно однотипны: все они имеют «головку», а в ней — отверстие для подвешивания, ниже идет «поя-
(66/67)
сок», украшенный орнаментом либо в виде кружков, либо в виде поперечной резьбы, ещё ниже — усечённо-конусовидное основание. Таким образом, все подвески трёхмерные.
Во всех случаях, когда подвески были обнаружены в непотревоженных погребальных камерах и когда принадлежность их можно было определить совершенно достоверно, они находились только при останках женщин (могильник Казылган, курган А-17, костяк 2; Саглы-Бажи II, курганы 4, 13).
Ключевое значение для определения семантики этих предметов имеет подвеска, найденная в кургане 13 могильника Саглы-Бажи II (костяк 2). На её «головке» виднеется чётко нанесенное изображение человеческого лица и причёски, завершающейся ниспадающей косой. Полная аналогичность этой подвески по форме и орнаментации другим подобным подвесным амулетам позволяет определить их как амулеты антропоморфные, изображающие женщин в расширяющейся книзу одежде. Нахождение же этих антропоморфных подвесок только при женских костяках заставляет искать их связь с культами плодовитости.
На произведениях переднеазиатского искусства доахеменидского и ахеменидского времени в культовых и иных сценах встречаются изображения предметов, удивительно напоминающих саглынские подвески. Предметы эти обычно трактуются в литературе как «курильницы». Как и саглынские подвески, «курильницы» всегда трёхмерные: вверху — главообразное навершие, в «поясничной» части — орнаментированный перехват, нижняя часть конусообразная, расширяющаяся книзу.
Ранние образцы изображений «курильниц» известны в произведениях ассирийского искусства — на барельефах во дворце Ашшурбанипала в Ниневии и во дворце Саргона II в Дур-Шарруккине [Руденко, 1961, с. 17, рис. 7 а, б]. Сцены на обоих рельефах в значительной степени сходны: и тут и там изображены жрецы в молитвенных позах, большие алтари и перед ними «курильницы».
В ахеменидское время изображения «курильниц» фигурируют на цилиндрах, встречены они и среди рельефов Персеполя. В Персеполе две «курильницы» изображены на барельефе перед сидящим на троне Артаксерксом I [Руденко, 1961, с. 17, рис. 8; ср.: Фрай. 1972, рис. 31, 69]. С. И. Руденко отмечает, что наиболее поздним является изображение курильницы на цилиндре, представленном в коллекции Кларка и датируемом первой половиной V в. до н.э. По описанию, приводимому С. И. Руденко, на цилиндре изображена богиня, сидящая на троне и держащая в руке растение (цветок), прислужница подаёт богине птицу, ещё одна женщина (она в зубчатой короне) находится перед «курильницей» [Руденко, 1961, с. 17, рис. 9].
На древнеперсидских тканях, обнаруженных в Пятом Пазырыкском кургане на Алтае, представлен этот же сюжет [Руденко, 1953, табл. CXVII, 3; Руденко, 1961, с. 15-17, рис. 6]. На ткани выявлена серия квадратов, заполненных сценой повторяющегося содержания. В центре сцены — «курильница» (С. И. Руденко допускает ещё одно значение — «жертвенник»); с обеих сторон перед «курильницей» находятся по две женщины в коронах, причём женщины, находящиеся непосредственно перед курильницей, более высокие, и с их корон ниспадает «фата»; женские фигуры, стоящие позади первых, ниже ростом, и в их уборе «фата» отсутствует; женщины в коронах — в строго канонических позах. Автор раскопок С. И. Руденко правильно подмечает сходство «курильниц» на древнеперсидской ткани из Пятого Пазырыкского кургана с приведённым выше кругом аналогий, причем дугообразное изображение сбоку каждой «курильницы» С. И. Руденко справедливо интерпретирует как изображение цепочки, подобной цепочке на «курильницах» персепольского барельефа Артаксеркса I.
Рассмотрение сюжетов переднеазиатского происхождения показывает определённую связь «курильниц»-алтариков с культом Великой богини — матери всего сущего, причём данный культовый предмет скорее всего и являлся изображением этой богини. Чётко прослеживается и моление этому предмету именно женских персонажей культовых сцен.
О том, что культ Великой богини достиг пределов Саяно-Алтайской зоны, зримо свидетельствует знаменитый войлок из Пятого Пазырыкского кургана (войлок местной работы — это следует подчеркнуть). На нём нанесена повторяющаяся сцена, изображающая Великую богиню, восседающую на троне, в руке её непременный атрибут — цветущая ветвь; перед богиней обращённый к ней всадник на коне — человек «арменоидного» типа, брюнет, с закрученными вверх усами, в развевающемся небольшом плаще [Руденко, 1953, с. 322-323, 375, табл. XXXVIII, XCV]. Итак, местные мастера-пазырыкцы исполнили на войлоке аппликацию переднеазиатского содержания. Изображение самими пазырыкцами этой сцены свидетельствует о важности культа Великой богини в идеологии народов Саяно-Алтая.
Культу Великого женского божества была суждена долгая жизнь как на протяжении скифского времени, так и в течение многих столетий, прошедших после окончания этой исторической эпохи.
(67/68)
На Западе, в причерноморских степях, этот переднеазиатский образ имел широкое распространение в ряде модификаций. Это грозная богиня Дева, которой приносились человеческие жертвы (Геродот, IV, 103), это и змееногая богиня скифов — одно из основных воплощений Великой владычицы зверей [Шелов, 1950, с. 64, 66, 69; Артамонов, 1961, с. 57-87; Пятышева, 1947, с. 214-215, 218; Грач, 1952, с. 178-181]. Образы эти, как и на своей родине — в Передней Азии, — тесно связаны с образом древа жизни (пути проникновения древневосточных мотивов в скифское искусство убедительно прослежены Б. Б. Пиотровским; см.: [Пиотровский, 1949а, с. 182-187; Пиотровский, 1949б, с.126-129; Пиотровский, 1944, с. 312; Пиотровский, 1959, с. 248-256, рис. 85-87]).
В первые века нашей эры поздним вариантом образа Великой богини является Орсилоха, упоминаемая у Аммиана Марцеллина (Amm. Marc., Res gestae, XXII, 34). Возможно, именно это женское божество с прорастающими руками было изображено вместе с двумя предстоящими крылатыми грифонами на известном штемпеле из боспорского города-крепости первых веков нашей эры Илурата. Возможно также, что именно Великому женскому божеству приносились человеческие жертвы в знаменитом илуратском святилище, раскопанном экспедицией В. Ф. Гайдукевича [Гайдукевич, 1950, с. 187-200; Гайдукевич, 1958, с. 37-47, 79, 81-84, рис. 13, 15, 27, 29, 30, 31,76; Гайдукевич, Капошина, 1951, с. 185-186, рис. 15; Gaidukevič, 1971, с. 410-411; Грач, 1952, с. 174-181].
Образ Великой богини дожил в Европейской России до этнографической современности, превратившись в орнаментальные мотивы русских вышивок и почти полностью утратив с течением многих веков свою древнюю многоплановую семантику [Стасов, 1872; Городцов, 1926, с. 7-36; Динцес, 1951, с. 465-491, рис. 241-248, 254, 264, 266-267; Динцес, 1948, с. 36-38, 43, рис. 1, 2, 7; Рыбаков, 1948, с. 90-106; Амброз, 1965, с. 14-27; Амброз, 1996, с. 62-76]. В азиатских степях образ Великой богини тоже был пронесён через тысячелетия и в реликтах дожил практически до наших дней.
Рассматривая дальнейшую историческую судьбу образа, связанного с женскими антропоморфными амулетами скифского времени, необходимо иметь в виду и антропоморфную фигурку гуннского времени из Ноин-Улы (курган 23, найдена в могильной камере возле гроба) [Руденко, 1962а, с. 88, 121, рис. 64]. Фигурка эта уплощённой формы (толщина около 0,5 см), вырезана из полупрозрачного камня, трёхмерная, в верхней части вырезаны контуры человеческого лица, над которым угадываются контуры высокого головного убора; сверху вниз фигура расширяется (контуры расширяющегося платья). Имеются все основания предполагать, что фигурка изображает женщину. Не исключена возможность и того, что погребение в кургане 23 было женским, во всяком случае, инвентарь, сохранившийся в разграбленной камере, как будто этому не противоречит. С. И. Руденко указывал, что, хотя большие курганы Ноин-Улы принято считать погребениями хуннских шанъюев, в некоторых курганах, возможно, были погребены женщины, принадлежащие к хуннской знати (так, С. И. Руденко считал женским погребение в кургане 24) [Руденко, 1962а, с. 23].
Сопоставляя фигурку из Ноин-Улы с антропоморфными амулетами из более древних саглынских курганов, следует всё же иметь в виду, что аналогичность сопоставляемых предметов не является безусловной и должна быть подкреплена новыми находками.
Под именем Умай Великая богиня почиталась племенами древнетюркского времени — предками современных тюркоязычных народов. Это имя фигурирует в древнетюркских текстах. В надписи в честь выдающегося деятеля II тюркского каганата «премудрого» Тоньюкука имеется такое место: «Небо, (богиня) Умай, священная Родина (земля-вода) — вот они, надо думать, даровали (нам) победу» [Малов, 1961, с. 68]. В тексте на памятнике принцу Кюль-Тегину тоже упоминается Умай: «В десять лет для (т.е. на радость) её Величества моей матери-катун, подобной Умай, мой младший брат получил геройское имя Кюль-Тегин (стал зваться мужем, т.е. богатырем)» [Малов, 1951, с. 40; Мелиоранский, 1899, с. 71].
Умай представлена и среди образов искусства древнетюркского времени. Изображение богини присутствует на известном валуне из могильника Кудыргэ: в сложной сцене, высеченной на камне, имеется изображение богини в короне, ещё одно женское изображение (слева от главной женской фигуры), значительно меньшее по масштабу, но тоже в короне, держит в руках уздечку одного из трёх присутствующих в сцене коней [Руденко, Глухов, 1927, с. 51-52, рис. 18; Гаврилова, 1965, с. 20; Длужневская, 1978, с. 230-237]. Л. Р. Кызласов был первым, кто достоверно отождествил главное женское изображение на кудыргинском валуне с богиней Умай [Кызласов, 1949, с. 49]. Следует обратить особое внимание на то, что древнетюркская Умай, как и её древнеиранские прообразы, изображена с короной на голове.
(68/69)
Богиня Умай древних тюрков и одноимённое божество, почитавшееся многими современными или почти современными тюркоязычными народами, соединены единой генетической линией (впервые это подметил выдающийся русский тюрколог М. П. Мелиоранский, который указал также, что «современная» Умай — «покровительница детей») [Мелиоранский, 1898, с. 266]. Этнографы Н. Ф. Катанов, Н. П. Дыренкова, Л. Э. Каруновская, С. М. Абрамзон и др. зафиксировали культ Умай у таких народов, как алтайцы, хакасы, шорцы, а также киргизы и узбеки [Образцы народной литературы тюркских племён, 1907, с. 564, 578; Дыренкова, с. 134-139; Каруновская, 1927; Абрамзон, 1949, с. 82]. Все эти материалы, как и материалы собственных полевых сборов, были сведены Л. П. Потаповым, посвятившим культу Умай у тюркоязычных шаманистов специальное исследование [Потапов, 1973, с. 265-286].
Работы этнографов показывают, что в позднейшее время Умай сохранила только часть своих божественных функций: в XIX — начале XX в. она была покровительницей детей и фигурировала в обрядах, связанных с рождением ребёнка и ранним его детством. В древности же это была богиня, связанная и с войной [Грач, 1958, с. 158]: могущественной Умай приписывалось и дарование древним тюркам побед. В еще более глубокой древности — в скифское, а также в сарматское время на западных территориях степного пояса грозному женскому божеству приносились человеческие жертвы.
Находка подвесок, символизировавших женское божество, только при женских костяках является, как нам кажется, достаточно ясным свидетельством того, что одна из столь, казалось бы, противоположных функций женского божества, бывшего богиней войны и богиней плодовитости, широко признавалась в скифское время. Именно эта последняя функция — плодовитости, отражённая в культе Умай, дожила до самых позднейших времён [Грач, 1979в]. Все другие функции Великой богини в течение многих веков и под влиянием изменившихся исторических условий были забыты и утрачены навсегда.
ПОГРЕБАЛЬНЫЙ РИТУАЛ ^
(идеологические аспекты)
В погребальном ритуале носителей многих культур скифского времени нашло отражение важное социальное и идеологическое явление эпохи в целом — коллективизм в сооружении погребальных комплексов и, часто, коллективный характер самих комплексов. Это явление ярко представлено в памятниках алды-бельской и саглынской культур. Особенно существенным представляется то, что сплочённость конкретных кочевых коллективов отразилась в памятниках обеих культур, несмотря на их разноэтничность, проявившуюся в резком отличии погребальных сооружений алды-бельской культуры от саглынских курганов.
Как уже указывалось в соответствующих разделах книги, погребения алды-бельцев были, как правило, одиночными, совершавшимися в подпрямоугольных плитовых или деревянных камерах. Однако эти одиночные погребения всегда группируются возле главного — центрального — погребения в пределах общего погребального комплекса. Саглынские погребения совершались в общих для всего коллектива погребальных камерах-срубах, гораздо более значительных по сравнению с алды-бельскими размеров. При всём несходстве конструкций погребальных сооружений обеих культур и различии многих элементов погребального ритуала выделяется одна общая черта, состоящая в том, что это прежде всего погребения определённых коллективов людей.
Рассмотрение курганных погребений скифского времени, оставленных различными этническими объединениями на многих территориях Великого пояса степей, демонстрирует и на Западе, и на Востоке повторяющуюся и непременную деталь конструкции погребальных сооружений — каменное кольцо, одинарное или двойное. Кромлех, таким образом, присущ курганам скифского времени многих археологических культур. В том или ином виде кольцевые выкладки являются компонентом курганных сооружений европейских скифов, савроматов, саков Приаралья, Памира, Ферганы и Тянь-Шаня, Семиречья, пазырыкцев Алтая, алды-бельцев Тувы. Впрочем, кольцевые каменные выкладки не свойственны погребальным сооружениям тагарской культуры на Среднем Енисее и большинству погребений саглынской культуры в Туве.
Одним из выдающихся образцов сооружений, связанных с конструкциями типа кромлехов, является храм солнца на открытом воздухе саглынский Улуг-Хорум у северной границы котловины Больших озер Монголии.
Кромлехам разных исторических эпох посвящена поистине огромная литература. Среди этих трудов несомненно выделяется изданная почти 50 лет тому назад работа И. И. Мещанинова. Рассматривая материалы раскопок Усатовских курганов под Одессой и курганов Ольвийской периферии, И. И. Мещанинов пришел к совершенно определённому выводу о культовом назначении каменных курганных
(69/70)
колец: «Каменные круги (кромлехи) соединяются с курганами вовсе не случайно и играют вовсе не подсобную техническую роль крепид. Они выступают в этом соединении со своею самостоятельною ролью выразителя определённого культового задания» [Мещанинов, 1930, с. 9]. Уточняя и дополняя обобщаемые наблюдения, И. И. Мещанинов указал (в связи с материалами Зевсова кургана в Ольвии) на возможность комбинации культового и технического назначения кромлеха-крепиды [Мещанинов, 1930, с. 17].
Действительно, имеющиеся материалы по кромлехам в курганных конструкциях, в том числе и в погребальных сооружениях алдыбельской культуры, заставляют констатировать в большом числе вариантов явное слияние культовой семантики каменного кольца и его технико-конструктивного значения как крепиды, удерживающей курганное сооружение от развала и расползания. При этом смысловое значение кромлехов чаще всего справедливо связывается с солярно-космическими представлениями.
Курганы саглынской культуры в подавляющем большинстве находятся в ограде подчетырёхугольной формы (округлые ограды единичны). Во всех случаях, когда ограды эти при курганах зафиксированы, они «внешние» между оградой и собственно курганными сооружениями всегда имеется определённое пространство. Внутри ограждения находится, как правило, одна усыпальница. В редких случаях (например, могильник Саглы-Бажи II, курганы 3, 4) внутри ограды имеются два кургана со срубами, и лишь однажды зафиксированы три кургана (могильник Даган-Тэли I, курганы 1-3). В ряде случаев в оградах найдены каменные плиты или небольшие угловые камни, превосходящие, однако, по размерам камни, из которых выложены стороны оград (при всём отличии саглынских памятников от курганов тагарской культуры Среднего Енисея в этом элементе можно видеть известное сходство идеологических мотивов).
Семантика подчетырёхугольных оград погребальных памятников саглынской культуры представляется иной, нежели смысловое значение сооружений типа кромлехов. Ограды эти обозначали, по-видимому, табуирование участков земли и соответственно табуирование усыпальниц, находившихся на этих участках.
Все люди, погребённые под курганами алдыбельской и саглынской культур, покоились на боку, с подогнутыми ногами, т.е. в так называемом скорченном положении. Количественно преобладают погребения на левом боку. Проблема скорченных погребений составляет одну из важнейших археолого-этнографических проблем мирового порядка. Глубочайшая древность их происхождения (древнейшие из известных погребений этого рода относятся к мустьерскому времени) и широкое их распространение практически во все исторические эпохи вплоть до этнографической современности издавна привлекают внимание исследователей к интерпретации скорченных погребений, к расшифровке их семантики.
Само понятие «скорченные погребения» в значительной мере условно, поскольку обычно им обозначают и погребения, скорченные в буквальном смысле слова, и погребения с чуть согнутыми в коленном суставе ногами. Под понятие «скорченные погребения» подпадают ещё два вида: погребения на спине с подогнутыми ногами и сидячие погребения (эти два вида погребений мы здесь не рассматриваем).
Рассмотрение погребальных обрядов, присущих населению этнокультурных зон Великого пояса степей скифского времени, и сопоставление с этими данными сведений о погребальных обрядах носителей алды-бельской и саглынской культур показывают, что такой важный элемент, как положение погребённых, вовсе не был повсеместно идентичен: в одних зонах преобладало помещение умерших в погребения в вытянутом положении на спине, для других зон были специфичны скорченные погребения.
В скорченном положении на боку хоронили умерших пазырыкцы Алтая и Тувы. Первое же неграбленое погребение среднего слоя носителей пазырыкской культуры, раскопанное в Саглынской долине (могильник Саглы-Бажи II, курган 1), полностью подтвердило давнее предположение С. В. Киселёва о скорченном положении и восточной ориентировке как важных канонах погребального ритуала пазырыкцев. Предположение это было сделано С. В. Киселёвым на основе внимательного изучения сохранившихся in situ костей человека, погребённого в кургане 6 могильника Туэкта на Алтае [Киселёв, 1951, с. 293, табл. XXVIII, 21].
В скорченном положении хоронили своих покойников люди, оставившие памятники большереченского этапа на Верхней Оби, и саки Памира. В то же время в вытянутом положении на спине хоронили умерших сородичей тагарцы Среднего Енисея, носители культуры плиточных могил Монголии и территорий, прилежащих к Байкалу, бийцы Верхней Оби, саки Средней Азии и Семиречья, тасмолинцы Казахстана.
Вытянутое положение было господствующей позой погребённых в могильниках савроматов, хотя встречаются у них и скорченные погребения. По данным К. Ф. Смирнова, среди савро-
(70/71)
матских погребений скорченные составляют всего 14%, причём в раннесавроматское время скорченных погребений на спине зафиксировано 23,7%, а скорченных погребений на боку — 42%; в позднесавроматское время тех и других было соответственно 5,4 и 1,1% [Смирнов, 1964, с. 92]. Таким образом, у савроматов наблюдается резкое понижение процента скорченных погребений в V-IV вв. до н.э.
У скифских племён причерноморских степей преобладающим стал обычай хоронить покойников в вытянутом положении на спине [Смирнов А.П., 1966, с. 43, 54; Граков, 1971, с. 64; Телегин, 1972, с. 56-58]. В то же время скорченные погребения, особенно на ранних этапах скифского времени, продолжают сопутствовать погребениям в вытянутом положении. [2]
Скорченные погребения встречены и в некрополях, расположенных в зонах античных городов Северного Причерноморья — Ольвии и Херсонеса. По вопросу об этнической принадлежности этих погребений существуют различные точки зрения. Большинство исследователей приписывает их местному населению (ольвийские — скифам, херсонесские — скифам или таврам) [Капошина, 1941, с. 161-173; Капошина, 1973; Книпович, 1940а, с. 80-82; Книпович, 1940б, с. 92-106; Белов, 1938, с. 194; Белов, 1950, с. 276-278; Белов, 1948, с. 31-33, табл. I, II; ср.: Блаватский, Гайдукевич, 1949, с. 147]. Мнение, что эти погребения являются греческими [Лапин, 1966, с. 212-213], подверглось острой критике (см.: [Шелов, Брашинский, 1969, с. 170]), но встретило и поддержку (см.: [Кадеев, 1972, с. 101-102]).
Как и на скифских могильниках, скорченные погребения ольвийского и херсонесского некрополей сосуществуют с основным и преобладающим типом — с погребениями в вытянутом положении на спине. В последние годы скорченные погребения были открыты в Чайкинском некрополе, расположенном возле одноимённого городища в Крыму [Яценко, 1974, с. 213-215; Коновалов, 1969, с. 294-295; Коновалов, 1971, с. 250; Коновалов, 1972, с. 344], и в некрополях Фанагории [Долгоруков, Масленников, Шавырина, 1975, с. 107], Кеп, Гермонассы, Тирамбы, Пантикапея [Масленников, 1976, с. 112-127]. Недавно скорченные погребения были открыты и в некрополе Нимфея (раскопки Н. Л. Грач, 1977 г.).
Присутствие скорченных погребений в собственно скифских могильниках и даже в некрополях античных городов Северного Причерноморья свидетельствует о наличии традиции, резко отличающей эти погребения от основной массы захоронений.
В археологической литературе господствует концепция, согласно которой скорченные погребения скифского времени, обнаруженные в Европейской части СССР, являются отражением традиций более древних исторических эпох на этих же территориях. Иными словами, предполагается автохтонное развитие этого погребального обряда в скифское время (см., например: [Труды XI АС, с. 156-157; Труды XIII АС, с. 240; Смирнов А. П., 1966, с. 54; Смирнов А. П., 1961, с. 86; Шелов, 1961, с. 90]). Это убеждение основано на том факте, что скорченное положение погребенных характерно для всех предшествующих скифскому времени историко-археологических общностей: и для ямной, и, что особенно важно в этом плане, для катакомбной и срубной культур.
Думается всё же, что охарактеризованная выше картина распространения скорченных погребений на территориях Великого пояса степей в целом, как и данные новейших исследований культур скифского типа в азиатских пределах пояса степей ставят на повестку дня и вопрос о возможных для раннескифского времени восточных проникновениях обряда скорченности погребённых. Во всяком случае, в свете этих данных гипотеза автохтонного происхождения обряда скорченности в погребениях скифского времени Восточной Европы нуждается в проверке.
Скорченность погребений в курганах алдыбельской и саглынской культур, как и наличие скорченных погребений в других, разных по хронологии и этнокультурной принадлежности группах памятников, вовсе не является свидетельством этногенетической преемственности. Единственное, о чём можно в этом плане говорить, — это об известной общности религиозной идеологии в пределах скифского времени.
В Центральной Азии для всех вариантов памятников монгун-тайгинского типа, предшествующих алды-бельской культуре — наиболее ранней центрально-азиатской культуре скифского типа, — характерны скорченность и западная ориентировка погребённых. Однако, несмотря на то, что скорченность (так же как и преобладание западной ориентировки) присуща и алды-бельским погребениям и памятникам ещё более поздней саглынской культуры, говорить о генетической преемственности нет оснований, поскольку общий комплекс типичных черт погребального ритуала и конструк-
(71/72)
ций погребальных сооружений демонстрирует резкие отличия монгун-тайгинских погребений от алды-бельских и алды-бельских погребений — от саглынских. Речь может идти только о том, что скорченность является и здесь, в Центральной Азии, как и дальше на Западе, явлением стадиально более древним,
В послескифское время — в погребениях улуг-хемской культуры, датируемых последними веками до нашей эры и относящихся уже к гунно-сарматскому времени, скорченность ещё продолжает сохраняться, однако общий комплекс типичных признаков ритуала и конструкции погребальных сооружений вновь свидетельствует об отсутствии прямой генетической связи между носителями улуг-хемской и предшествующей ей саглынской культуры.
В погребальном ритуале памятников кокэльского типа, датируемых первыми веками нашей эры, уже безраздельно господствует вытянутое положение на спине. В более поздние исторические эпохи — в древнетюркское время (VI-X вв. н.э.), в монгольское время, в погребениях тувинцев XVII-XX вв. при трупоположении вытянутое положение на спине сохраняется.
Рассмотрение погребального ритуала носителей алды-бельской и саглынской культур показывает, что в отличие от ряда других этнокультурных зон «скифского» мира — и от расположенных по соседству (тагарцы, зона плиточных могил), и от удалённых областей (саки Средней Азии и Казахстана, савроматы, собственно скифские территории) — скорченность погребённых была основным и преобладающим типом позы погребённых, прочно сохранявшимся на протяжении всего скифского времени в целом.
Широкое и длительное распространение обряда скорченности в пределах разных этнокультурных зон «скифского» мира, в том числе и наличие определенного процента скорченных захоронений среди погребений собственных скифских, показывает ошибочность известного вывода В. В. Гольмстен, сводившегося к тому, что «при трансформации... общества осёдлых пастухов в общество кочевых скотоводов (скифов) исчезает скорченность» и что это следует связывать «со значительным ослаблением родовых связей, с изменением формы семьи, с выделением частной собственности» [Гольмстен, 1935, с. 41]. Приходится заметить, что цитированные положения не соответствуют не только данным, полученным в течение последних десятилетий, но и материалам, имевшимся ко времени написания работы В. В. Гольмстен. Скорченность погребенных у алды-бельцев, саглынцев, саков Памира и ряда других племён сопровождала те же явления, общие для пояса степей в целом — рождение элементов классовых отношений, — что и в иных этнокультурных зонах, отмеченных иными чертами погребального ритуала. Таким образом, связывать исчезновение обряда скорченности в ряде районов степного пояса с разложением первобытнообщинного строя по меньшей мере неоправданно.
Попытки объяснения семантики скорченной позы погребённых исходят, как правило, из этнографических материалов и сводятся в основном к трём версиям: придание мёртвому позы спящего; придание мёртвому положения человеческого зародыша в утробе матери; наконец, стремление путём связывания трупа обезопасить живых от мёртвых.
Стандартного объяснения семантики скорченных погребений применительно к разным народам и историческим эпохам быть не может. Хотелось бы в то же время подчеркнуть, что к интересующим нас вариантам скорченных погребений наименее применима версия, объясняющая их появление и широчайшее территориально-временное распространение стремлением «обезвредить» мёртвого, сделать его безопасным для живых.
Этнографическая и археологическая литература полна выводов о страхе перед мёртвыми и о стремлении избавиться от них путём погребения. Напомним в связи с этим обобщение, сделанное Ю. Липсом, который, характеризуя страх перед мёртвыми, сопутствующий заботе о них, писал: «Представление о ревнивой мстительности мёртвых проходит красной нитью через похоронные обряды человечества, начиная с доисторических времён и кончая нашей современной цивилизацией». Далее Ю. Липс перечисляет «приёмы, которыми пользуются для того, чтобы заставить трупы оставаться в своих могилах»: заваливание камнями могил у тасманийцев и связывание ими трупов по рукам и ногам; связывание мумий древними египтянами; прибивание трупов гвоздями к доскам в первобытной Испании; «пришпиливание» покойников копьями у австралийцев; наконец, забивание гвоздями современных гробов [Липс, 1954, с. 386-387]. Все эти примеры приводятся порою и затем, чтобы аргументировать версию, будто основная функция такого способа погребения — обезопасить живых [Семёнов, 1966, с. 389-392].
На наш взгляд, главное, из чего должна исходить расшифровка погребений в положении на боку с подогнутыми ногами, — это прежде всего анализ самой позы. Необходима в связи с этим подчеркнуть, что с древнейших этапов истории человечества эта поза была глубоко преднамеренной.
(72/73)
В свете всех имеющихся данных мы считаем возможным интерпретировать скорченные погребения под курганами алды-бельской и саглынской культур как погребения людей, покоящихся в позе спящих. Поскольку саглынские камеры-срубы являются близкими подобиями жилищ, есть основания предполагать, что погребения разных возрастных категорий людей в этих срубах повторяли размещение живых людей во время сна в реальных жилищах.
Сопоставлять смерть и сон, — казалось бы, сопоставлять несопоставимое. Между тем не только в представлениях древних людей, но и в научной биологии основания для такого сопоставления имеются. Рассматривая проблему аналогичности смерти и сна, великий русский учёный И. И. Мечников приводит соображения ряда исследователей, сводящиеся к тому, что сон является следствием самоотравления организма либо в связи с накоплением в мозгу продуктов истощения (которые уносятся кровью во время сна), либо в связи с накоплением в организме некоей кислоты, либо в связи с накоплением щелочи (лейкомаины), либо в связи с накоплением веществ, сходных с ядовитыми продуктами болезнетворных микробов [Мечников, 1964, с. 115-124]. «Аналогия между сном и естественною смертью, — указывает И. И. Мечников, — позволяет предположить, что последняя наступает также вследствие самоотравления. Оно гораздо глубже и серьёзнее того, которое вызывает сон» [Мечников, 1964, с. 119].
Переходя к характеристике отдельных черт погребального обряда древних кочевников Центральной Азии, следует прежде всего отметить, что черепа целого ряда людей, погребённых в могильнике Саглы-Бажи II и в других могильниках саглынской культуры, оказались трепанированными (особенно большая серия трепанированных черепов была получена при раскопках могильников Мажалык-Ховузу I, II). Трепанационные отверстия были проделаны в лобных, затылочных, теменных костях черепов (рис. 116). Очевидно, трепанационные отверстия проделывались для извлечения мозга. Обычно трепанация применялась при бальзамировании трупов, которое было широко распространено в различных районах древнего мира: в Ассирии, Мидии, у персов и египтян. Бальзамирование трупов умерших знатных лиц было в обычае у различных племён «скифского» мира — в Европейской Скифии и на соседнем с Тувой Алтае — у пазырыкцев [Руденко, 1953, с. 332, табл. XVIII; Руденко 1960, с. 329-334, рис. 1611.
С. И. Руденко, подробно проанализировавший все случаи трепанации и бальзамирования в курганах Алтая, отмечает, что они свойственны только погребённым в больших курганах и в курганах малых не встречены. В Туве же саглынские памятники дают, как уже указывалось, значительное число трепанированных черепов. Более того, при исследовании кургана 3 могильника Урбюн III (4-й отряд СТЭАН, Д. Г. Савинов, 1965 г.) были обнаружены впервые в Центральной Азии — останки мумифицированных тел людей. Части мумифицированных тел, уцелевших здесь после ограбления погребальных камер, демонстрируют высокий уровень искусства мумификации. Устанавливается ряд важных деталей применявшихся приёмов мумификации: мягкие ткани и мускулы удалялись, освободившиеся полости заполнялись травой, при сшивании употреблялись сухожилия и конский волос. Части мумифицированных тел сохранились и в кургане 1 могильника Даган-Тэли I.
В тех случаях, когда мумии не обнаружены, есть всё же основания полагать, что какие-то меры для возможно более долгого сохранения тел умерших предпринимались.
В погребальных обрядах древних кочевников Центральной Азии скифского времени большую роль играл культ лошади.
При раскопках царского кургана Аржан в Уюкской долине были обнаружены костяки более 160 жеребцов. С культом лошади были связаны и кольцевые выкладки: здесь в характерном сочетании зафиксированы кости коней черепа и кости ног ниже голеностопного сустава (отсутствуют позвонки, рёбра и крупные кости конечностей). М. П. Грязнов и М. X. Маннай-оол полагают, что это остатки конских шкур, в которых были оставлены черепа и нижние кости конечностей. Исследователи Аржана считают также, что оградки были местами жертвоприношений после погребальных или поминальных тризн. По подсчётам М. П. Грязнова и М. X. Маннай-оола, на поминальных тризнах возле кургана Аржан было съедено около 300 лошадей [Грязнов, Маннай-оол, 1973, с. 200-204].
В курганах среднего социального слоя носителей алды-бельской культуры пока не найдено сопроводительных захоронений коней, но устойчивой серией представлены находки комплектов характерных для раннескифского времени уздечных наборов, включающих бронзовые удила со стремечковидными окончаниями. Комплекты эти находятся во всех случаях на краях центральных могильных ям, на уровне древней поверхности почвы. Нельзя не отметить, что далеко на западе, в собственно скифских областях, царские погребения тоже сопровождаются конскими гекатомбами, а погребения более скромных социальных кате-
(73/74)
горий, как правило, не содержат сопроводительных конских захоронений, однако в них часты предметы конской сбруи.
Можно считать установленным, что для погребений среднего социального слоя носителей саглынской культуры сопроводительные захоронения коней не характерны (ни один царский курган саглынской культуры пока не известен). Однако в саглынских курганах присутствуют явные и многочисленные следы культа коня. Особенно знаменательными можно считать находки конских черепов с предметами конской сбруи у краёв могильных срубов. Первая находка такого рода была сделана ещё в 1927 г. С. А. Теплоуховым (могильник Туран I, курган 93 (34) [Полторацкая, 1966, с. 82-83]). За северо-западной стенкой сруба саглынской культуры было найдено 4 конских черепа и многочисленные предметы сбруи (в основном от уздечных наборов), а также 18 черепов овцы (ещё один череп овцы был найден за северо-восточной стенкой сруба). В большинстве курганов могильников Мажалык-Ховузу были обнаружены конские кости (в том числе черепа), а также овечьи кости (в том числе черепа). Значение этих находок трудно переоценить: они не только говорят о коневодческом направлении хозяйства кочевников-саглынцев, но и чётко фиксируют наличие у них культа лошади.
Сопроводительные погребения коней были обнаружены и в единственном пока раскопанном в Туве кургане алтайской пазырыкской культуры (могильник Саглы-Бажи II, курган 1), где кони в соответствии с канонами погребального ритуала пазырыкцев помещены на «полике» у северного борта погребальной камеры и ориентированы головами на восток.
Традиции помещения костей коня и предметов конского убора в погребения была суждена в Центральной Азии и Южной Сибири более чем двухтысячелетняя жизнь. Сопроводительные погребения коней, древнейшие варианты которых были открыты в погребениях скифского времени, представлены затем в погребениях древнетюркского времени (погребения по обряду ингумации VII-IX вв. н.э.), монгольского времени и, наконец, в погребениях тувинцев и южных алтайцев XVII-XIX вв.
Вопрос о культе коня у различных монголоязычных народов был не так давно рассмотрен К. В. Вяткиной, которая обобщила материалы о роли этого культа в генеалогических преданиях, свадебных обрядах, тотемистических представлениях, в шаманском культе (Тайлга) и, наконец, в похоронной обрядности [Вяткина, 1968, с. 117-122]. Помимо ссылок на современных этнографов К. В. Вяткина приводит и известное свидетельство В. Рубрука о похоронном обряде команов-кыпчаков: «Я видел одного недавно умершего, около которого они повесили на высоких жердях 16 шкур лошадей, по четыре с каждой стороны мира» [Рубрук, 1957, с. 102].
Нам, со своей стороны, также приходилось уже отмечать некоторые факты, связанные с погребением лошади или шкуры лошади в древнетюркское время [Грач, 1968б, с. 109-111]. В свете всех имеющихся данных можно полностью солидаризоваться с К. В. Вяткиной, утверждавшей, что вероятнее всего «источником их у предков тюркских и монгольских народов была общая домонгольская и дотюркская стадия общественного развития» [Вяткина, 1968, с. 121]. К этому следует лишь добавить, что роль алды-бельско-майэмирских и саглынско-пазырыкских всадников в сложении культурных и культовых традиций, связанных с лошадью, была на этой «дотюркско-домонгольской стадии» велика.
Рассмотрение погребений скифского времени Тувы позволяет установить бытовавшие в древности общие стандарты комплектов сопроводительного инвентаря, «причитавшегося» той или иной социальной, половой или возрастной категории погребённых. В погребениях среднего социального слоя носителей алды-бельской культуры мужчина снабжался на тот свет кинжалом, ножом, оселком, небольшим набором стрел, гребнем, зеркалом; женщина снабжалась шилом, зеркалом, набором бус-украшений, гребнем. В саглынских курганах мужчина сопровождался в иной мир кинжалом, чеканом, колчаном со стрелами, походным «несессером» (нож, шило), зеркалом, деревянной посудой, охотничьими амулетами из клыков медведя, кабана, марала, кабарги и некоторых других животных; женщине сопутствовала керамика, при ней были украшения (бусы, раковины каури), амулеты в виде женской фигурки, игла, шилья. Состав сопроводительного инвентаря отдельных погребений, разумеется, имеет варианты, однако основа стандартов повторяется устойчиво.
Обращает на себя внимание совершенно определённая ограниченность комплектов погребального инвентаря у центрально-азиатских племён скифского времени, выражающаяся в следующем.
1. В алды-бельских погребениях совершенно отсутствует керамическая посуда, отмечены лишь находки деревянных сосудов. В саглынских погребениях, напротив, керамическая посуда, как и деревянная, представлена обильно.
2. Как в алды-бельских, так и в саглынских погребениях обнаружены наконечники боевых
(74/75)
и охотничьих стрел. Особенно многочисленны находки стрел (в мерзлоте сохранившихся вместе с древками) в курганах саглынской культуры, — там они положены в головах погребённых в кожаных колчанах, причем, как правило, поперёк по отношению к длинной оси погребённых. В неграбленом кургане пазырыкской культуры (могильник Саглы-Бажи II, курган 1) колчанный набор находился в ногах, но тоже поперёк к длинной оси погребённых. Наряду с этим нет ни одной находки лука. Объяснение, что луки полностью разрушены временем, ни в коей мере не является оправданным: в курганах, камеры которых были скованы мерзлотой, деревянные вещи гораздо меньшей прочности, нежели луки (например, деревянные сосуды и женские головные уборы), сохранились превосходно, а луков там всё же нет.
3. Как уже указывалось, устойчивым компонентом погребального ритуала алды-бельской культуры является помещение в курган предметов сбруи — уздечных наборов. Характерно, впрочем, что в погребениях среднего социального слоя предметы конского убора находились не в погребальных каменных ящиках, а у краёв могильных ям главных погребений. Сопроводительных погребений лошадей в курганах среднего социального слоя не было, в то же время в царском кургане Аржан были открыты многочисленные сопроводительные захоронения коней в сбруе. Для курганов саглынской культуры в отличие от синхронных саглынским пазырыкских курганов сопроводительные погребения полных туш коней не характерны, в большинстве случаев нет там и предметов конской сбруи, однако, как уже было сказано, нередко обнаружены черепа и другие кости лошадей.
4. Как и в курганах пазырыкской культуры Горного Алтая, в саглынских курганах были обнаружены орудия для копки и разрыхления грунта (могильник Саглы-Бажи II, курганы 3, 8). Однако в погребальном инвентаре саглынцев совершенно отсутствуют орудия для обработки дерева и строительства срубов — те самые бронзовые кельты, следы работы которыми столь отчетливо видны на брусьях камер-срубов. Это обстоятельство не случайно: по-видимому, соплеменники погребённых полагали, что эти орудия труда не потребуются умершим людям в загробном мире, ведь подземные дома — обиталища мёртвых — были для них уже сооружены.
Таким образом, многие вещи, сопутствовавшие людям при жизни, не сопровождали их в иной мир, причём «ограничительный регламент» соблюдался весьма
чётко.
Как объяснить это явление? Прежде всего, представляется, что «ограничительный регламент» диктовался идеологическими соображениями. Если рассмотреть указанные выше моменты ограничений инвентаря и сопоставить их с комплектами, наличествующими в погребениях алды-бельской и саглынской культур, то могут возникнуть два объяснения: страх перед покойными или осознаваемое отличие загробного мира от мира реального. Первая версия, как нам думается, отпадает: хотя в погребениях не было луков, колчанные наборы стрел состояли из реальных наконечников по преимуществу боевого применения и порчи этих наконечников не отмечено. К тому же (и это главное) погребенные воины были снабжены боевыми кинжалами, чеканами, а также ножами, и предметы эти опять-таки помещены в погребения целыми, не поломанными и не затупленными. Значит, мотивы страха перед умершими сородичами отступают на задний план. В то же время отсутствие керамики в алды-бельских погребениях и отсутствие конских захоронений или сбруи в курганах саглынских говорят о наличии представлений о том, что эти сосуды, сбруя и верховые кони не потребуются покойным в ином мире, который представлялся качественно отличным от мира живых. [3]
Вся совокупность имеющихся данных свидетельствует о том, что погребения носителей культур скифского времени в Центральной Азии отражают комплекс представлений, получивший в этнографии наименование идеи «живого мертвеца». Идея эта у многих древних и современных народов мира была связана с представлением о продолжении после смерти функционирования умершего человека, однако в ином качестве и в ином мире.
Вопрос о роли чисто анимистических представлений в погребальном ритуале алды-бельцев и саглынцев сложен, а собственно археологические материалы дают по этому поводу мало свидетельств. Одно из них, говорящее, по-видимому, о наличии анимистических пред-
(75/76)
ставлений, — находки несомненно вотивных предметов, моделей, значительно уступающих по размерам предметам реальным. В числе этих предметов можно назвать изредка находимые в саглынских курганах миниатюрные копии боевых кинжалов и чеканов.
Погребальные обычаи саглынцев предусматривали устройство кенотафов; первые подтверждения этому уже есть.
Древнейший в Центральной Азии воинский кенотаф был обнаружен в неграбленой погребальной камере кургана 2 могильника Дужерлиг-Ховузу I (см.: [Грач, 1977б]). В этой усыпальнице покоились останки двух мужчин-воинов с богатым и разнообразным инвентарём, а там, где должен был бы лежать третий воин, находился его «портрет» на маленьком овальном роговом медальоне, предметы вооружения, золотая кокарда с изображением триквестра (знак воинского отличия) и некоторые бытовые предметы и украшения (керамический сосуд, гривна, пуговица, пряжка).
В кургане 8 могильника Саглы-Бажи II в ряду взрослых было 5 погребённых, а с краю ряда, у северо-восточной стенки камеры, было оставлено «незанятым» пространство, которого как раз хватило бы на захоронение ещё одного человека; в «головах» «незанятого» пространства лежали камень-подушка и глиняный сосуд, между брёвнами северо-восточной стенки камеры оказался вставлен бронзовый кинжал-акинак (возле этого места на полу камеры найдена пастовая бусина). Можно полагать, что это — кенотаф.
С. А. Токарев отмечает, что любому похоронному обряду свойственны две тенденции — избавление от покойника и стремление сохранить его вблизи от живущих. Предложенная С. А. Токаревым схема развития форм погребения разработана как бы в двух направлениях и показывает развитие обрядов как следствие двух инстинктов, отраженных в отмеченных выше основных тенденциях, — опрятности и социальной привязанности [Токарев, 1964б, с. 171]. Рассмотрение материалов по погребальным обрядам скифского времени, в том числе по погребальным обрядам алды-бельцев и саглынцев, показывает преимущественное влияние инстинкта и соответственно тенденции социальной привязанности. Это выражается в стремлении сохранить умерших, мумификации, сооружении погребальных курганов, склепов (последнее прямо связано с элементом «хранения в жилой хижине»). Элементы же, связанные обычно с преимущественным стремлением избавиться от умершего (оставление и выбрасывание трупа, пещерное погребение, воздушное погребение, наземное погребение, как и погребение водяное и погребение в ладье), как будто не свойственны древним кочевникам скифского времени (впрочем, такая форма погребения, как расчленение трупов, была зафиксирована в ряде погребений сарагашенского этапа тагарской культуры на Среднем Енисее [Киселёв, 1951, с. 261]; подобные факты были зафиксированы и автором этой книги при исследовании могильников тагарской культуры Туран I и II).
Исследование погребальных обрядов скифского времени, в том числе изучение скорченных погребений в различных историко-археологических провинциях «скифского» мира, позволяет сделать вывод, что эти обряды являются отражением осознания социальной связи живых и мёртвых. Особенно наглядно представление о такой связи проявилось в сооружении курганов вождей племён. Помимо чисто культового значения эти памятники имели функции пропаганды могущества кочевых «царей», символизировали этническое и соответственно боевое единство людей, сооружавших огромные погребальные комплексы. Именно такие функции нес и царский курган Аржан — место захоронения «царя» алды-бельцев. [4]
Погребениям скифского времени, в том числе алды-бельским и саглынским, свойствен и ряд других черт, которые позволяют говорить о преобладании мотивов социальной связи погребенных с коллективом живых. Погребенные мужчины, как уже указывалось, снабжались реальным боевым оружием без всяких следов его порчи (поломки, затупления и т.д.) — кинжалами-акинаками, ножами, стрелами; алды-бельские цари, захороненные в Уюкской долине, снабжены на тот свет огромным количеством лошадей. О каком же преобладании мотивов страха перед погребенным и представлений о вреде, исходящем от покойных, может идти речь, если в усыпальницах лежат мёртвые люди, тщательно вооружённые их живыми сородичами?
Итак, одна из главных идеологических основ погребального ритуала носителей культур скифского времени в Центральной Азии сводилась к осознанию чёткой сопричастности умерших к коллективам живых людей — сопричастности, для которой смерть вовсе не являлась непереходимым барьером.
[1] Новейшие исследования Стоунхенджа — знаменитого мегалитического памятника, сооружённого в Англии на рубеже каменного и бронзового веков (XX-XVII вв. до н.э.), вполне убедительно показали, что этот гигантский древний храм солнца на открытом воздухе был не только культовым сооружением, но и астрономической обсерваторией, которая позволяла вести календарь и даже предсказывать наступление затмений солнца и луны. Автором исследования Д. Хокинсом были использованы методы археологии, геодезии, астрономии, анализ по С-14 и, наконец, ЭВМ, с помощью которой и было доказано, что Стоунхендж не только памятник культа, но и обсерватория (см.: [Хокинс, Уайт, 1973]). Вероятно, Улуг-Хорум и его аналоги нуждаются в попытке подобного исследования.
[2] В дополнение к цитированным работам см. сводку данных из раскопок Стемпковского, Скадовского, Эварницкого, Бобринского, Бранденбурга, Самоквасова, Оссовского и других исследователей, составленную в своё время С. И. Капошиной [Капошина, 1941, с.166-167].
[3] Любопытный пример «ограничительного регламента» дают и погребения гораздо более поздней эпохи истории Центральной Азии – курганные захоронения древнетюркского времени. Письменные источники чётко свидетельствуют, что древнетюркская конница была вооружена саблями и копьями (См.: [Бичурин, 1950, с.229]). В то же время погребения древнетюркского времени, совершенные по обряду ингумации с конём в VII-IX вв. н.э., исследованные в весьма значительном числе в Туве, Монголии, на Алтае, в Минусинской котловине, не дали не одной находки сабли или наконечника копья, хотя там встречено боевое оружие – луки, колчаны со стрелами-свистунками, ножи, причем эти предметы следов порчи не имеют. Что же касается погребений енисейских кыргызов (совершённых по обряду кремации), то там сабли и наконечники копий представлены.
[4] В эпоху более древнюю, чем скифское время, юго-восточные соседи древних племён Центральной Азии — протокитайцы-иньцы — верили в то, что их вожди-ваны после ухода в мир иной становились чуть ли не ещё более могущественными, чем в реальной жизни. Покойный ван, верили они, получал власть над миром духов и мог оказать существенное воздействие на бытие живых (см.: [Васильев, 1970, с.43-44; Думан, 1970, с.22]).
|