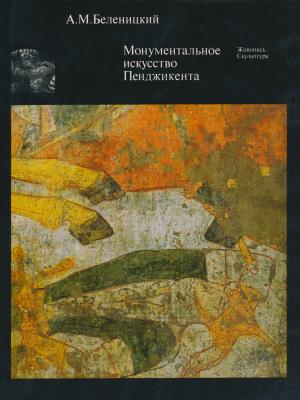 А.М. Беленицкий
А.М. Беленицкий
Монументальное искусство Пенджикента.
Живопись, скульптура.
// М.: «Искусство» 1973. 68 с. («Памятники древнего искусства»)
IV. К вопросу о генезисе и связях пенджикентских памятников искусства с искусством других районов Средней Азии и зарубежных стран.
Теперь, когда едва ли не во всех основных районах Средней Азии открыты памятники древнего монументального искусства, уже нет необходимости доказывать, что Средняя Азия в целом занимает особое, вполне самостоятельное место в общей истории развития восточного искусства. Вполне очевидно сейчас, что раннесредневековое среднеазиатское искусство имеет свою собственную длительную историю, что мы имеем дело с искусством, в котором сложились свои художественные школы, каждая из которых в свою очередь имела свои особенности и традиции. Эти отдельные школы, возникавшие и развивавшиеся в отдельных пунктах, не представляют собой, однако, изолированные явления. Они развивались в условиях постоянного взаимодействия и взаимовлияния с другими центрами искусства. Памятники искусства Пенджикента дают богатый материал для характеристики как индивидуальных особенностей пенджикентской школы изобразительного искусства, так и связей её с другими центрами.
На территории Согда, то есть долины Зеравшана, в настоящее время известны три центра, в которых процветало монументальное искусство. Это, наряду с Пенджикентом, Варахша и Афрасиаб (руины древнего Самарканда). Стенные росписи и остатки резного дерева (обуглившегося) из Афрасиаба открыты в последние годы, и мы о них знаем лишь по предварительным сообщениям. Однако и сейчас можно сказать с уверенностью, что пенджикентские художники находились в непосредственной связи с Самаркандом. Больше того, Самарканд, являвшийся в то время крупнейшим экономическим и культурным центром Согда, несомненно играл ведущую роль в области изобразительного искусства. Самарканд и Пенджикент следует рассматривать как одну художественную школу. Однако конкретное и более детальное сравнение между собой памятников искусства Пенджикента и Афрасиаба — дело будущего, когда афрасиабские памятники будут опубликованы полностью. На определённые связи пенджикентской живописи с живописью Варахши указывалось уже неоднократно.
Можно с достаточной долей уверенности предположить, что и в данном случае имели место контакты между художниками Варахши, Самарканда и Пенджикента, их взаимное знакомство с произведениями друг друга. Росписи так называемого «Восточного зала» Варахшинского двора как по своей тематике, так и по многим деталям обнаруживают наглядно черты сходства с живописью Пенджикента. [35]
Вместе с тем вполне очевидны и существенные отли-
(51/52)
чия между Варахшей [Варахшой] и Пенджикентом, которые выступают при сравнении живописных сцен «Красного зала» Варахши с живописью, например, пенджикентского зала VI/41. В обоих случаях живописные сцены имеют своим содержанием ряд эпизодов, с участием одних и тех же персонажей. Однако в то время как пенджикентские художники сумели создать живую, насыщенную содержанием повесть в образах, отдельные сцены «Красного зала» Варахши, повторяя по содержанию одна другую, лишены полностью повествовательного характера. Попытка В.А. Шишкина объяснить сцены как «определённый мифический сюжет», восходящий к искусству и мифологии Древнего Востока, к таким их сюжетам, как борьба Гильгамеша с чудовищем, бога Мардука с Тиаматом, или же к изображениям единоборства царя с фантастическими животными на ахеменидских памятниках искусства, едва ли убедительна. Каких-либо собственно иконографических черт, которые указывали бы на знакомство художников Варахши с традициями искусства Древнего Востока, в сценах «Красного зала» не имеется. Да и по времени сравниваемые памятники слишком далеко отстоят друг от друга, не говоря уж о том, что идеологические представления древневосточного общества во время создания варахшинской живописи являлись уже давно минувшим этапом. Нет основания согласиться с В.А. Шишкиным и в том, что «этот сюжет несомненно связан с религиозной, дуалистической концепцией борьбы двух начал — зла и добра». [36] На варахшинской живописи борьба с фантастическими чудовищами, в которых усматривается воплощение отвлечённой идеи «зла», перемежается с охотой на реальных хищников таким образом, что зритель едва ли был в состоянии воспринять указанную идею, реально её осознать. При взгляде на варахшинскую живопись невольно возникает убеждение в том, что художники, создавшие её, ставили перед собой другую цель, главным образом задачу декоративного украшения зала.
Что касается избранной художниками темы, то нам представляется, что в живописи этого дворцового зала следует видеть поздний отголосок дворцового искусства более раннего времени, скорее всего кушанского, когда Средняя Азия вместе с Индией входила в состав Кушанской империи и когда, надо полагать, охота на крупных хищников с помощью слонов была реальным явлением царского быта и, естественно, служила темой для дворцового искусства. Далёкими прообразами таких сцен могут служить некоторые композиции на резной кости Беграма. [37]
К памятникам искусства согдийского круга, к пенджикентским в первую очередь, близки стенные росписи и особенно резное дерево дворца шахристана, являвшегося центром княжества Уструшаны. Шахристан расположен в непосредственном соседстве с верховьями Зеравшана, входившими в состав пенджикентского княжества.
К сожалению, в погибших от пожаров помещениях шахристанского дворца живопись плохо сохранилась, но многочисленные остатки резного дерева свидетельствуют о том, что художники шахристана придерживались стилистических приёмов и разрабатывали близкие по тематике сюжеты, как и пенджикентские их коллеги. [38] До сих пор опубликован лишь фрагмент живописи дворца шахристана с весьма любопытным сюжетом — изображением волчицы, кормящей двух младенцев. Не касаясь происхождения этого сюжета, аналогии которому хорошо известны и на Востоке (Иране) и в римско-византийском искусстве [39] (капитолийская волчица — многочисленные монеты Рима и Византии), мы отметим, что и в Пенджикенте был найден золотой брактеат с этим же сюжетом. На связи с пенджикентским искусством особо наглядно указывают многочисленные остатки резного дерева, найденные в шахристанском дворце. Они свидетельствуют с полной определенностью, что мастера-резчики по дереву разрабатывали тематически близкие к пенджикентскому искусству сюжеты, придерживаясь аналогичных стилистических приёмов.
Кроме названных пунктов в Средней Азии в настоящее время известны современные Пенджикенту центры процветания монументального искусства в ряде районов, сравнительно далеко находящихся от Пенджикента. К ним относятся Ак-Бешим и Красная речка в Северной Киргизии, Кува в восточной Фергане, Аджина-тепе в Южном Таджикистане, Балалык-тепе и Джумалак-тепе в Южном Узбекистане. Памятники искусства первых четырех пунктов — преимущественно глиняная скульптура (остатки живописи сохранились только в Аджина-тепе) — не дают или очень мало дают точек соприкосновения с искусством Пенджикента. Дело в том, что все они происходят из буддийских святилищ и целиком связаны с кругом тем и сюжетов общебуддийского канонического культового искусства, каким мы знаем его по памятникам Индии, Афганистана или Восточного Туркестана. Разумеется, что эти памятники, будучи современными пенджикентским, очевидно, содержат определённые общие стилистические черты. Но до их полной соответствующей публикации (большая часть их опубликована лишь в предварительных отчётах) об этом говорить пока рано.
Больший интерес представляют живопись Балалык-тепе и резное дерево Джумалак-тепе. Опубликован-
(52/53)
ные В.А. Нильсеном остатки резного дерева последнего обнаруживают уже при самом первом взгляде на них большую близость к резному дереву Пенджикента. [40]
На детали сходства, как и на черты отличия между Пенджикентом и Балалык-тепе указал Л.И. Альбаум, открывший этот замок и его живопись. Стенные росписи в Балалык-тепе найдены в одном помещении, напоминающем по планировке квадратные залы Пенджикента.
Живопись сохранилась на всех стенах. Посвящена она одной теме — изображению многолюдной сцены пиршества, на которой сохранилось более четырёх десятков (47) персонажей — самих пирующих и их слуг. Трактовка фигур этой сцены выдержана в той условно-реалистической манере, которая характерна и для пенджикентской живописи. Л.И. Альбаум отметил в живописи Балалык-тепе много элементов или, по его словам, «моментов» живописи одного из гротов Бамиана (в Афганистане), где изображена сцена подношения даров перед изображением Будды. [41] Однако сходство ограничивается лишь деталями — покроем одежды, характером украшений и т.д. Что касается сюжета в целом, то росписи Балалык-тепе в буддийском искусстве не находят параллелей. Интересна попытка Л.И. Ремпеля объяснить эту сцену как передачу определённого эпического эпизода (по «Шахнаме»). [42] Как можно полагать, художник или художники, которые расписывали стены в небольшом замке Балалык-тепе, были связаны с более крупным центром, в котором такая «светская» тематика искусства имела определённую и достаточно длительную традицию. Выяснить корни этой традиции представляется интересным, как увидим, не только для объяснения происхождения живописи Балалык-тепе, но и для понимания истоков и искусства Пенджикента и других раннесредневековых памятников искусства Средней Азии.
В этом отношении исключительное для истории среднеазиатского искусства значение приобретают памятники, открытые в последние годы в Халчаяне. Исследованием Халчаяна наука обязана Г.А. Пугаченковой. Памятник этот, находящийся в Южном Узбекистане, в исследованной части представляет собой дворцовое здание, при раскопках которого обнаружено очень большое количество различной скульптуры, выполненной в глине.
Имевшиеся стенные росписи погибли от пожара и, к сожалению, лишь в незначительной степени поддаются восстановлению. Они, очевидно, имели орнаментальный характер. Датируется Халчаян последними веками до и первыми после начала н.э. На территории юга Средней Азии, той её части, которая в древности именовалась Бактрией, а впоследствии Тохаристаном, Халчаян является наиболее ранним из числа археологических пунктов, познакомивших нас с монументальной скульптурой. Мы не касаемся общего содержания и сюжетов, воплощённых в скульптурных образах, поскольку они описаны подробно в посвящённой Халчаяну монографии. [43] Отметим только, что памятник этот является современным или достаточно близким по времени к Сурх-Коталу, к знаменитому памятнику, открытому в северной части Афганистана, то есть в южной части Бактрии-Тохаристана, составлявшей на протяжении древней и раннесредневековой истории единую культурную область. Сурх-Котал датируется первыми веками н.э.
На основе анализа памятников искусства Сурх-Котала французский учёный Д. Шлюмберже впервые поставил в широком плане проблему об особом значении искусства кушанской эпохи в истории развития искусства обширных районов Среднего Востока, включавших Северную Индию, Афганистан и Среднюю Азию. Выделив в качестве особого этапа кушанский период и введя в научный оборот само понятие кушанского искусства, Д. Шлюмберже прежде всего высказал новую точку зрения, важную для изучения самого искусства кушанской эпохи. В то же время эта теория открывает, что для нас особо важно, определённую перспективу и для понимания всего дальнейшего развития искусства на территориях, входивших в состав кушанских владений, в том числе и Средней Азии.
С точки зрения проблемы происхождения раннесредневекового искусства Средней Азии особой интерес представляет то, что в искусстве кушанской эпохи Д. Шлюмберже наряду с буддийским или греко-буддийским культовым искусством выделил в качестве самостоятельного направления, по его словам, «династийное» искусство, [44] которое было бы правомочнее назвать «дворцовым» или, ещё более приблизительно, — светским.
Этот взгляд, высказанный ещё в 1950-х годах, нашёл своё блестящее подтверждение в Халчаяне, на материалах, кстати, гораздо более разнообразных и многочисленных, чем в Сурх-Котале. Именно в «дворцовом» искусстве кушанского времени мы сейчас улавливаем истоки особенностей дворцовых памятников искусства Топрак-кала в Хорезме, тем более что Топрак-кала и по времени близок к периоду расцвета кушанской эпохи. Однако и в более поздних памятниках искусства Средней Азии, принадлежащих уже к раннесредневековой эпохе, влияние кушанского искусства прослеживается с достаточной определённостью. В
(53/54)
данном случае речь идёт о преемственности, быть может, не столько по линии стиля, как иконографии и сюжетов в целом. Выше уже говорилось, что живопись варахшинского дворца (особенно «Красного зала») есть основание также связывать с кушанским искусством.
В этом отношении показательны и многие пенджикентские памятники, которые нас здесь особенно интересуют. Выше, при разборе отдельных памятников искусства, публикуемых в настоящей работе, постоянно указывалось на те параллели, которые мы находим к ним в произведениях искусства Афганистана и Индии. Как нетрудно заметить, во многих случаях памятники, на которые мы ссылались, относятся именно к кушанскому или последующему близкому к нему времени. Одним из наиболее ярких таких примеров может, в частности, служить скульптурная панель айвана ограды второго храма Пенджикента. Такие характерные для этой панели фигуры, как тритон, макара, гиппокамп, во множестве представлены в кушанском искусстве Афганистана и Северной Индии. Другим не менее показательным примером являются деревянные скульптуры танцовщиц в искусстве указанных стран того же кушанского времени.
В статье, посвящённой происхождению зооморфных тронов в изобразительном искусстве Средней Азии, автор настоящей работы пришёл к выводу, что в том виде, каком они представлены на памятниках Пенджикента и Варахши, они восходят к тронам, изображения которых имеются в кушанском искусстве на памятниках Матхуры, Сурх-Котала и Халчаяна. [45]
Не повторяя здесь приводимые в статье материалы, хотелось бы лишь повторно отметить то обстоятельство, что сохранению в Средней Азии кушанских традиций способствовали и определённые общеисторические факторы. В частности, к ним относится и известный факт о наследственных связях, существовавших между владетельными домами среднеазиатских княжеств в раннем средневековье и Кушанской династией. Приведём одно из сообщений китайской хроники, дающей непосредственное представление о характере этих связей, тем более что оно относится к Самарканду. «Со времени династии Хан преемствие престола не пресекалось. Собственно владетель называется Вынь, происходит из дома Юечжи... Он разделился на множество владетельных родов и утвердился в древнем царстве Кан. Сии роды в память своего первоначального происхождения все удержали прозвание Чжаову». [46]
В среде этих поздних княжеских родов, в их дворцовом искусстве, а также в их владениях традиции искусства их далёких предков сохранялись, естественно, с наибольшей устойчивостью. Разумеется, что, говоря о раннесредневековом искусстве Средней Азии, было бы неверным ограничиться указанием только на кушанские его корни. Само кушанское искусство не являлось с начала до конца готовым продуктом собственно кушанского времени. Его собственные корни восходят к ещё более раннему времени. Новейшие археологические открытия в Южной Бактрии, а именно открытие первого на этой территории городища греко-бактрийского времени Ай-Ханым, это вполне подтверждают. [47] Найденные великолепные памятники архитектуры и скульптуры собственно эллинистического времени в Ай-Ханыме свидетельствуют о том, что и греко-бактрийское время оставило вполне определённый след в искусстве древней Бактрии. В частности, определенные эллинистические образы в скульптуре Халчаяна (например, Афина, Аполлон, Ника, гирляндоносцы) должны быть объяснены влиянием греко-бактрийского искусства. Совершенно бесследно оно не исчезло и в последующие века. С другой стороны, века, отделяющие искусство раннего средневековья от кушанской эпохи, нельзя рассматривать как полный вакуум. Если не в Средней Азии, то в соседнем Афганистане известны памятники искусства промежуточного между кушанским и раннесредневековым времени. Наиболее яркими из них является, например, Хадда. [48] Очень важно подчеркнуть и то важное обстоятельство, что в процессе исторического развития сложились новые общественные слои населения, которые приобрели вкус и интерес к изобразительному искусству, что вывело его за пределы как храмового, так и собственно дворцового искусства. Лучшим примером этого является Пенджикент, в котором весьма значительный слой зажиточных горожан украсил свои парадные залы стенными росписями и резным деревом.
Наконец, нельзя игнорировать и такой фактор, как постоянные контакты населения Средней Азии с соседними зарубежными странами, особо учитывая громадный размах торговых связей (особенно Согда). На этом вопросе необходимо остановиться несколько подробнее. Выше в ходе изложения материала приходилось указывать на связи с южными соседними странами — Афганистаном и Индией. О существовании постоянных общекультурных связей и, следовательно, взаимоотношений по линии идеологической и изобразительного искусства, разумеется, не приходится сомневаться. Сложнее решается вопрос о влиянии на среднеазиатское, в том числе на пенджикентское, искусство искусства Ирана. Анализ реального характера их взаимозависимости осложнён тем, что до сравнительно недавнего времени в науке господствовало
(54/55)
преувеличенное представление об общем влиянии иранского, особенно сасанидского, искусства на искусство соседних с Ираном стран и, в частности, Средней Азии, влияние, которое распространилось вплоть до Китая Танского времени включительно. Собственно искусству Средней Азии в истории восточного искусства, по крайней мере в домусульманское время, фактически не отводилось никакого места, и если о нём и говорилось, то как о периферийной провинциальной отрасли иранского.
Такое представление в значительной мере вытекало из того обстоятельства, что до начала 1930-х годов в Средней Азии фактически памятники монументального искусства домусульманского времени не были известны. И при аргументации положения о самостоятельном значении в древности среднеазиатской культуры и, в частности, искусства, приходилось, как это сделал в своё время В.В. Бартольд, [49] опираться только на показания письменных источников. Сейчас, когда на территории всей Средней Азии открыты многочисленные центры изобразительного искусства, указанная квалификация среднеазиатского искусства как «периферийного» или «провинциального» по отношению к иранскому является уже несомненным анахронизмом. Об этом приходится напомнить потому, что и сейчас ещё встречаются в литературе аналогичные высказывания. Так, недавно хорошо известный исследователь раннемусульманского художественного металла Д. Райс нашёл возможным, правда, попутно, заметить, что «фрески Пенджикента по художественному стилю кажутся принадлежащими к провинциальной школе, находящейся под сильным влиянием сасанидского искусства». [50] Ещё более удивительно то, что и С.П. Толстов, правда, в несколько более ослабленной форме, высказал то же суждение, — и не только о пенджикентской, но также и о живописи Варахши и Балалык-тепе. По мнению С.П. Толстова, живопись названных трёх пунктов глубоко отлична от античной живописи Топрак-Калы, и что «скорее в искусстве сасанидского Ирана или Византии — мы для них можем найти аналогии, правда, достаточно отдалённые». [51] Ни первый, ни второй авторы не приводят, однако, каких-либо доказательств в пользу своих взглядов, и поэтому оспаривать их точку зрения трудно. Здесь мы только отметим тот общеизвестный факт, что именно в пределах собственно Ирана до последнего времени сасанидская монументальная живопись вовсе не была известна. И, по существу, говорить о каких-то аналогиях, естественно, не приходится.
В.А. Шишкин, поставивший вопрос о связи варахшинской живописи с искусством Ирана, нашёл возможным указать лишь на имеющиеся параллели в некоторых памятниках живописи Дура-Европос, [52] расположенного на западном берегу Ефрата, причем сами эти памятники датируются серединой III века, то есть самым начальным периодом образования сасанидской державы. Вполне очевидно, что в данном случае памятники искусства из Дура-Европос если и содержат черты иранского искусства, то в большей мере отражают традиции парфянского времени, чем собственно сасанидского. Анализ некоторых ранее опубликованных памятников искусства Пенджикента привёл в своё время автора, независимо от В.А. Шишкина, к убеждению, что в них прослеживаются определённые связи с парфянским искусством, и именно западных областей Парфянского царства. В качестве агентов, через которых эти связи осуществлялись, по мнению автора, выступали последователи учения Мани, зародившегося в Мессопотамии, основатель которого был по происхождению связан с парфянской династией. [53]
Из числа памятников искусства, которые публикуются в настоящей работе, парфянским влиянием отмечены и те календарные олицетворения дней недели, которые мы видим на резных плахах, если, конечно, предложенное отождествление композиций на них верно. Вместе с тем было бы неверным игнорировать воздействие искусства Ирана, в том числе сасанидского времени, на изобразительное искусство Средней Азии. Но оно шло, как нам представляется, не по линии влияния монументального искусства Ирана, а через произведения прикладного искусства. Так, хорошо известно, что под влиянием сасанидской монетной системы оформились монеты эфталитов и, позже, бухарского чекана (так называемые бухар-худатские монеты). Очевидно влияние Ирана и на орнаментацию тканей, особенно дорогих сортов. То же, очевидно, можно сказать и в отношении торевтики и глиптики. Из числа публикуемых в настоящей работе памятников искусства Пенджикента укажем на резные доски с охотничьими сценами, в которых можно проследить в определённой степени влияние сасанидских, так называемых охотничьих, серебряных блюд.
Что касается монументального искусства сасанидского Ирана, представленного в наиболее ярком воплощении в знаменитых наскальных рельефах Западного Ирана, то они ни по своему стилю, ни по содержанию и, наконец, ни по материалу, в котором они выполнены, не имеют ничего общего с домусульманским искусством Средней Азии. В условиях Средней Азии сасанидские наскальные рельефы не могли найти того отклика, на который они были рассчитаны. По своему сугубо «идеологическому» характеру они имели целью возвеличение царской династии Сасанидов, пропаганду могущества централизованного государства.
(55/56)
В Иране при Сасанидах практически не было создано массового монументального культового искусства в тех его формах, которые известны в Индии, в христианском мире и каким мы сейчас его знаем в Средней Азии. Единичные изображения Ахура-Мазды, Анахиты или изображение Митры в наскальных рельефах едва ли меняют это положение. Фактором эмоционально-художественного воздействия и особенно влияния на искусство других народов они по самому своему характеру стать не могли. И фактически мы не знаем за пределами Ирана примеров подражания этим памятникам, несмотря на их импозантность. Такое положение, естественно, не могло не привести к весьма ограниченному общему влиянию собственно официального сасанидского монументального искусства. К такому выводу пришёл и известный исследователь североиндийского искусства Дж. Маршалл, утверждающий, что влияние сасанидского искусства практически равно нулю. [54]
Разнообразные экономические, политические и культурные связи народов Средней Азии в домусульманское время с Дальним Востоком и в первую очередь с народами осёдлых оазисов Восточного Туркестана — факт широко известный. Особо выдающаяся роль в этих взаимоотношениях принадлежала согдийскому населению.
Выходцы из Согда, по преимуществу, создали на путях из Средней Азии, через весь Восточный Туркестан, вплоть до Лоб-нора цепь цветущих поселений-колоний, через посредство которых осуществлялись постоянные оживлённые связи. Эти взаимоотношения нашли яркое отражение и в области культуры и, в частности, в изобразительном искусстве. Открытие искусства оазисов Восточного Туркестана показало исключительно большое место, которое в нем занимают идущие с Запада влияния. До недавнего времени последние приписывались исключительно Ирану, главным образом сасанидскому.
Открытие домусульманского монументального искусства Средней Азии сделало очевидным, что все те черты искусства Восточного Туркестана, которые обычно считались «иранскими», являются элементами среднеазиатскими, точнее, согдийскими. Эти слова, принадлежащие М.М. Дьяконову, были написаны им после открытия первых памятников живописи Пенджикента. Последующие открытия произведений искусства в Пенджикенте, как и в других пунктах Средней Азии, только подтверждают сказанное. Сейчас в этом нет никакого сомнения. Можно отметить, что и на Западе исследователи приходят к признанию этого факта. Отметим две работы, посвященные этому вопросу, принадлежащие итальянским учёным. Автором одной из них является Туччи, широко известный индолог и тибетолог, посвятивший специальное исследование открытому в Пенджикенте живописному изображению женского божества с символами солнца и луны в руках, к которому, как он доказывает, восходит ряд аналогичных памятников искусства Восточного Туркестана и Тибета. [55] Автором другой работы является искусствовед М. Бусальи. В опубликованной им в 1964 году специальной монографии под названием «Живопись Центральной Азии» впервые сделана очень интересная попытка установить художественные, стилистические особенности отдельных центров искусства Восточного Туркестана, включая и Хотан. М. Бусальи ставит в широком плане вопрос о влиянии на восточнотуркестанское искусство искусства Средней Азии. Отметим, в частности, особую главу в этом труде, названную «Пенджикент и влияние Согда». [56]
Вместе с тем и этот труд показывает, насколько цепки укоренившиеся в сознании учёных старые представления о доминирующем влиянии Ирана. Так, автор постоянно оперирует, кажется, им самим изобретённым термином «Внешний Иран», которым он заменил ранее имевший хождение в науке термин «Восточный Иран», хотя, по сути дела, фактически имеется в виду главным образом Средняя Азия. В настоящей работе нет необходимости останавливаться на ряде фактических неточностей, имеющихся в этом труде, вытекающих главным образом из неполного знания советской литературы. Но в целом, повторяем, автор правильно оценивает большое влияние, которое оказало среднеазиатское искусство на искусство Восточного Туркестана.
(56/57)
Примечания.
[ . . . ]
(57/58)
[ . . . ]
[37] См.: I. Hackin, Nouvelles recherches archéologiques à Begram. — MDAFA, XI, Planches, Paris, 1954, fig. 104-110.
[38] См.: Н. Негматов, С. Хмельницкий, Средневековый Шахристан, Душанбе, 1966, табл. IV-IX.
[39] См.: Н. Негматов, Эмблема Рима в живописи Уструшаны. — «Известия АН ТаджССР», 2(52), Душанбе, 1968, стр. 21.
[40] В.А. Нильсен, Становление феодальной архитектуры Средней Азии (V-VIII вв.), Ташкент, 1966, стр. 302.
[42] Г.А. Пугаченкова, Л.И. Ремпель, Выдающиеся памятники изобразительного искусства Узбекистана, Ташкент, 1961, стр. 73.
[44] D. Schlumberger, Descendents non méditerranéens de l’art grec. — «Extrait de la Revue Syria», 1960.
[45] A.M. Беленицкий, Об изображении зооморфных тронов в среднеазиатском изобразительном искусстве. — «Известия АН ТаджССР», Душанбе, 1962.
[47] См.: D. Schlumberger et P. Bernard, Ai khanoum. — BCH, LXXXIX, 1965, 11, p. 590ff.
[48] См:. D.J. Bartoux, Les fouilles de Hadda, Stupas et sites. — MDAFA, t. VI. В последние годы замечательные открытия в Хадде были сделаны афганским археологом Месменди. Доклад о раскопках в Хадде был им сделан на Международной конференции по истории, археологии и культуре Центральной Азии в Кушанскую эпоху (в Душанбе, сентябрь 1968 г.).
[49] В.В. Бартольд, Восточно-иранский вопрос. — Сочинения, т. VII, стр. 417; его же, К истории персидского эпоса. — Там же, стр. 383.
[50] D.S. Rice, Studies in islamic Metal Work. — BSOAS, 1958, XXI/2, p. 232.
[51] S. Tolstov, Les résultats de travaux de l’expédition Archéologique ....... au Khorezm .... — «Arts Asiatiques», Paris, 1957, IV, N2/3, p. 191.
[53] A.M. Беленицкий, Новые памятники искусства Древнего Пенджикента. — Сб. «Живопись и культура [Скульптура и живопись] Древнего Пенджикента», стр. 33, 38, 63.
[54] J. Marshall, A Guide to Taxila, Cambridge, 1960, p. 37.
[55] G. Tucci, The tibetan «White Sun-moon» and Cognate deities. «East and West», N. 3, vol. 14, 1963.
[56] M. Busagli, Painting of Central Asia, Geneve, 1963 (особенно гл. 3. — «Piandzikent and the influence of Sogdiana»).
|