|
Рис. 28. Фрагменты фигур сирен. Глиняная скульптура. Пенджикент.(Открыть Рис. 28 в новом окне) |
Рис. 30. Фигура танцовщицы. Деревянная скульптура. Пенджикент.(Открыть Рис. 30 в новом окне) |
Рис. 31. «Фея под деревом». Шоторак.(Открыть Рис. 31 в новом окне) |
|
|
|
Рис. 33. Стеатитовый диск. Таксила.(Открыть Рис. 33 в новом окне) |
Рис. 34. Кушанская монета.(Открыть Рис. 34 в новом окне) |
Рис. 27.
Женщина-птица.
Штуковая скульптура.
Варахша (Реконструкция В.А. Шишкина).
(Открыть Рис. 27 в новом окне)
ловек» пенджикентской живописи передаёт канонический образ индуистского божества. Ещё меньше основания думать, что это изображение свидетельствует о существовании в Пенджикенте почитателей культа Шивы. Перед нами пример основательной переработки художественного образа, заимствованного независимо от его религиозного содержания.
Связь с индийским искусством демонстрирует и скульптура Средней Азии изучаемых веков.
Большую важность для нашей темы представляет найденная при раскопках Варахши и выполненная в штуке скульптурная фигура женщины-птицы (рис. 27), так называемой сирены, или сирина в средневековом русском искусстве. Этой скульптуре В.А. Шишкин посвятил специальную работу. [32] Как и весь замечательный резной штук, остатки фигуры были обнаружены не in situ, а в виде фрагментов в свалке. К сожалению, до сих пор не выяснено, имелась ли там одна фигура или их было две. Вопрос этот довольно существен, ибо от решения его в значительной мере зависит истолкование образа и установление его прототипа. Находка двух аналогичных фантастических фигур (рис. 28), выполненных в глине (Пенджикент), позволяет высказаться с большей определённостью, чем это сделал В.А. Шишкин. Сирены Пенджикента были найдены также не in situ, а обнаружены в погибшем от пожара небольшом помещении типа домашней часовенки, [33] что даёт возможность восстановить их первоначальное местонахождение. В таких помещениях главным элементом интерьера является очажная площадка у одной из стен, обрамлённая приставной глиняной нишей, которая образуется двумя колонками с арочным перекрытием. [34] В помещении, о котором идёт речь, арка ниши была украшена орнаментальной глиняной лепниной. Представляется несомненным, что фигуры сирен, составляя часть последней, украшали арку и находились либо под ней, либо в тимпанах. Как бы то ни было, именно парное изображение сирен (нередко под аркой или по бокам от неё) характерно для искусства Индии и Афганистана и
Рис. 29. Рельеф из Тарзипура (Индия).
(Открыть Рис. 29 в новом окне)
встречается очень часто — от знаменитых ступ Санчи и Бхархута (I в. до н.э.) [35] (рис. 29) и до гротов Бамиана [36] включительно.
Не ссылаясь здесь на другие примеры, отметим, что изображения такой пары мы находим и в резной кости Беграма. [37] Эти мифические существа упоминаются также в буддийской письменности. Там они фигурируют в качества мужской и женской пары под названием Кинара и Кинари. [38] В связи со сказанным кажется неубедительным отождествление В.А. Шишкиным этих существ с птицей хумо-персидского эпоса. [39] Правильнее сопоставлять их с индийскими образцами.
Наглядно прослеживается связь с индийским искусством в скульптурной панели айвана второго храма Пенджикента, открытой в 1953 г. Наиболее характерные фигуры этой панели — макара и тритон — получили разъяснение в искусстве Индии, о чём автор уже имел случай писать. Здесь отметим лишь, что особо близкие параллели названным фигурам дают памятники Беграма, в том числе и беграмская резная кость. [40]
Связи с индийской художественной культурой нашли отражение и в такой замечательной области пенджикентского изобразительного искусства, как деревянная скульптура. Они не оставляют сомнений в том, что последняя в Пенджикенте была исключительно развита и популярна. То же можно сказать и об Индии. [41] На это имеются прямые указания письменных источников. [42] Но собственно памятники индийской деревянной скульптуры интересующего нас периода и, разумеется, более ранних периодов почти не сохранились: климат страны разрушительно действовал на предметы из дерева. Аналогичное положение было и в Средней Азии. Пенджикентское резное дерево дошло до нас в обуглившемся виде: произведения находились в зданиях, погибших от пожара, и обычно весьма дефектны и фрагментарны. Тем не менее во многих случаях состояние памятников следует признать удовлетворительным, что позволяет восстановить их сюжеты и наиболее выразительные черты стиля. [43]
Ещё в 1954 г. была найдена группа одинаковых деревянных скульптур статуарного типа, определенных как изображения танцовщиц (рис. 30). Стилистическая связь их с индийской скульптурной традицией достаточно очевидна. Они напоминают известных «фей под деревом» (рис. 31) — сюжет очень распространённый в древнем искусстве Индии и Афганистана. [44]
Подробнее следует остановиться на некоторых памятниках искусства Пенджикента, открытых в последние годы и полностью не опубликованных. В 1960 г. был обнаружен крупный фрагмент плахи длиной около 2 м при ширине 0,6 м. Лицевая её поверхность обработана рельефной резьбой в виде двух неодинаковых по ширине ярусов. На нижнем более узком (ширина 0,2) воспроизведено шествие крылатых львов, на верхнем — (ширина 0,4) помещены три композиции, каждая из которых находится внутри отдельной полукруглой арки (рис. 32). К сожалению, одна композиция (крайняя слева) не поддаётся дешифровке. Содержание остальных, хотя они значительно повреждены, вполне ясно. На одной из них представлена женская (?) фигура, сидящая на троне в виде двух сросшихся спинами зверей, на второй — фигура в колеснице, запряжённой двумя вздыбленными конями, головы которых обращены в разные стороны. К той же категории принадлежит фрагмент другой плахи, открытый в 1962 г. На нём также в обрамлении орнаментальной арки изображена женская фигура на спине льва. В древнем искусстве Индии все эти сюжеты имеют близкие параллели. Первая из названных композиций напоминает прежде всего распространённое в буддийской скульптуре изображение Будды на троне, поддерживаемом или украшенном львами (реже — другими животными), почему такое сидение обычно и называется «сингха-сана» (львиный трон). [45] Композиция эта, ставшая канонической, относится к весьма раннему времени и засвидетельствована памятниками, точно датируемыми раннекушанским периодом. [46]
Ещё более интересны восходящие к тому же периоду скульптуры, которые изображают царей на тронах, также поддерживаемых львами. До последнего времени едва ли не единственным образцом подобной композиции являлась известная скульптура кушанского царя из Матхуры, приписываемая Виме-Кадфизу. [47] Недавно обнаружены ещё два памятника, имеющие аналогичную композицию, — каменный рельеф, открытый при раскопках в Сурх-Котале (Северный Афганистан), [48] и терракотовый медальон, найденный при раскопках в Халчаяне (Хонако-тепе, Южный Узбекистан). [49]
Отметим также, что по своему устройству трон на пенджикентском памятнике особенно близок трону, изображённому в живописи грота Духтари Нуширван (V в.). [50]
Вторая рассматриваемая нами композиция — женская фигура, сидящая на спине льва, — находит достаточно убедительные параллели в искусстве Индии и Афганистана, как кушанского, так и более позднего времени. Назовем такое же изображение на стеатитовом медальоне из Таксилы [51] (рис. 33) и на реверсе кушанской монеты, сопровождаемое надписью имени божества ΝΑΝΟ (Нанайа) [52] (рис. 34), изданную Каннигхамом гемму (печать) со сходным сюжетом и надписью греческим алфавитом. [53] Появление подобной композиции на монетах и резных камнях уже само по себе свидетельствует о распространённости сюжета.
Но, пожалуй, наиболее важной в интересующем нас аспекте яв-
ляется третья композиция, а именно — человеческая фигура в колеснице. Трактовка сюжета позволяет с полной несомненностью утверждать, что перед нами олицетворение небесного светила — солнца. Образ этот, как известно, широко отражён в искусстве ряда стран — античной Греции, [54] Византии, Ирана. [55] Однако пенджикентский памятник по ряду особенностей имеет наиболее близкие аналогии именно в искусстве Индии, где этот образ, олицетворявший солнечное божество — Сурья, широко представлен и в живописи и в скульптуре. Таковы изображения солнечной колесницы в скульптуре Бод-Гайи (I в. до н.э.) [56] и Хайр-Хане (V в. н.э.) [57] и в живописи Бамиана (V в. н.э.). [58]
В индийском искусстве мы находим параллели к изображениям шествия крылатых львов на нижнем ярусе пенджикентской резной плахи 1960 г. (скульптурный диск из Бхархута). [59]
Приведёнными примерами далеко не исчерпываются факты, подтверждающие тезис о связях изобразительного искусства Средней Азии и Индии в VI-VIII вв. н.э. Автор остановился преимущественно на тех примерах, которые, по его мнению, указывают на существование давнишней общей традиции в искусстве этих стран. Анализ ставших известными в последние десятилетия памятников монументального изобразительного искусства Средней Азии доарабского периода даёт основание утверждать, что связи именно с индийским искусством являются наиболее интенсивными, хотя столь же несомненно, что в среднеазиатском искусстве мы обнаруживаем много элементов, близких изобразительному искусству других стран Ближнего и Дальнего Востока. Это в определённой мере демонстрируют и те произведения искусства, о которых шла речь в данной работе. Всё же, кажется нам, наиболее непосредственным было взаимодействие с искусством Индии. Причём оно помимо общности художественной традиции определялось и другими весьма существенными причинами. В этом отношении интерес представляет найденный на городище древнего Пенджикента в 1957 г. фрагмент крупного глиняного сосуда с надписью индийским шрифтом брахми. Надпись прочерчена по сырой глине до обжига сосуда, т.е., безусловно, сделана на месте. И сосуд и надпись датируются началом VIII в. [60] Её выполнил, очевидно, индиец, находившийся в Пенджикенте. Едва ли вызывает сомнение тот факт, что и согдийцы в это время посещали Индию. Известная надпись, оставленная согдийцем в Ладаке [61] на его родном языке, служит достаточно убедительным подтверждением. Цели, которые преследовались при этом теми и другими (т.е. индийцами и согдийцами), могли быть самыми разнообразными. Но то, что в результате живого общения происходило взаимное знакомство с художественными достижениями каждой из стран, также следует считать совершенно бесспорным.
[1] В.В. Бартольд, История культурной жизни Туркестана, Л., 1927, стр. 10.
[2] Кратко вопрос о культурных связях между Средней Азией и Индией освещается в ряде работ (см.: В.А. Шишкин, К вопросу о древних культурных связях народов Средней Азии с другими странами и народами, — «Материалы второго совещания археологов и этнографов Средней Азии», М.-Л., 1992, стр. 22 и сл.; Б.Я. Ставиский, О международных связях Средней Азии в V — середине VIII в. (в свете данных советской археологии), — ПВ, М., 1960, №5, стр. 114-116.
[3] К.В. Тревер, Памятники греко-бактрийского искусства, М.-Л., 1940, стр. 24.
[4] С.П. Толстов, Древний Хорезм, М., 1948; В.В. Бартольд, История культурной жизни Туркестана, стр. 10 и сл.; М.И. Вязьмитина, Раскопки на городище Айртам, —
«Труды АН УзССР», сер. 1, История, археология (Термезская археологическая экспедиция), т. II. Ташкент, 1945, стр. 24.
[5] См.: M.E. Массон, Скульптура Айртама. — «Искусство», 1935, №2. Ср.: К.В. Тревер, Памятники греко-бактрийского искусства, стр. 29 и др. (указатель к словам «Айртам», «Термез»).
[6] Л.Р. Кызласов, Археологические исследования на городище Ак-бешим в 1953-1954 гг. — «Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции АН СССР», т. II. M , 1959, стр. 155 и сл.; Л.П. Зяблин, Второй буддийский храм Ак-бешимского городища, Фрунзе, 1961; В.А. Булатова-Левина, Буддийский храм в Куве, — СА, 1961, №3, стр. 241 и сл.
[7] Остатки древних сооружений в долине р. Самазар к северу от Самарканда, первично обследованных Л.И. Альбаумом и определённых им как руины буддийского храма, едва ли являются таковыми. См.: Л.И. Альбаум, Буддийский храм в долине Саназара, — ДАН УзССР. 1955, №8, стр. 57 и сл.
[8] Н.Я. Бичурин, Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена, т. II, М.-Л., 1950, стр. 272.
[9] (сноски нет)
[10] В.В. Бартольд, История культурной жизни Туркестана, стр. 11.
[11] См. — SPAW, 1938, S. 452.
[12] D. Schlumberger, Descendents non-méditerranéens de l’art grec, — «Syria», vol. XXXVII, Paris, 1960.
[13] Г.А. Пугаченкова, Некоторые итоги экспедиционных исследований Ин-та искусствознания АН УзССР в 1960 г., — «Общественные науки в Узбекистане», 1960, №3, стр. 66 и сл.; Образ Чаганианского правителя на терракотовом медальоне из Халчаяна, — ВДИ, 1962, №3 [2], стр. 88 и сл.
[14] D. Schlumberger, Descendents non-méditerranéens de l’art grec, p. 293 et ss. Cp: Г.А. Кошеленко. Культура Парфии в современной зарубежной литературе, — ВДИ. 1962. №3, стр. 166 и сл.
[15] Л.И. Альбаум, Балалык-тепе, Ташкент, 1960, стр. 171.
[16] «Живопись древнего Пянджикента», М., 1954, табл. XXXVI, XXXVIII, XXXIX.
[17] Там же, табл. IX, X.
[18] О живописной сцене пиршества, участниками которого являются знатные купцы, см.: А.М. Беленицкий, Отчёт о раскопках в Пенджикенте в 1961 г. (печатается).
[19] J. Hackin, Nouvelles recherches archéologiques à Begram — MDAFA, t. XI. Planches.
[20] С.П. Толстов, По следам древнехорезмийской цивилизации, M.-Л., 1948, стр. 176 и сл.
[21] См.: В.А. Шишкин, Варахша, М., 1963, табл. I-XI.
[22] В.А. Шишкин, Варахша (автореф. докторской дисс.), Ташкент, 1961, стр. 27.
[23] J. Hackin, Nouvelles recherches archéologiques à Begram, fig. 104-106.
[24] «Скульптура и живопись древнего Пянджикента», М., 1959, табл. XII, XVIII.
[25] См.: М.М. Дьяконов, Росписи Пянджикента и живопись Средней Азии, — «Скульптура и живопись древнего Пянджикента», стр. 147 и сл.; А.М. Беленицкий, Новые памятники искусства древнего Пянджикента, — «Скульптура и живопись древнего Пянджикента», стр. 49, 57 и др.
[26] «Скульптура и живопись древнего Пянджикента», стр. 19 и сл., табл. XIV, XV.
[27] A. Grünwedel, E. Waldschmidt, Buddhistische Kunst in Indien, T. II, Berlin, 1932, Abb. 48.
[28] G. Yezdani, Ajanta, Oxford, pt II, 1933, p. 36 pl. XXXV.
[29] «Скульптура и живопись древнего Пянджикента», табл. IX.
[30] Там же, стр. 39 и сл.
[31] Об иконографии Шивы см.: Т.A. Gopinatha Rao, Elements of Hindu iconography, vol. II, pt 1, Madras, 1916, p. 39 a.o.
[32] В.А. Шишкин, К вопросу о древних традициях в народном искусстве Узбекистана. — «Учёные записки Ташкентского Гос. педагогического института», вып. 1, Ташкент, 1947, стр. 33 и сл.
[33] Об условиях находки см.: А.М. Беленицкий, Результаты раскопок на городище древнего Пянджикента в 1960 г., — «Археологические работы в Таджикистане в 1960 г.», вып. 8, 1962, стр. 94, 107 и сл.
[34] Об этом типе помещений см.: В.Л. Воронина, Городище древнего Пянджикента как источник для истории зодчества, — «Архитектурное наследство», 1957, №8, стр. 120, рис. 4.
[35] A. Grünwedel, E. Waldschmidt, Buddhistische Kunst in Indien, T. l, Abb. 55, 57.
[36] A. Godard, Y. Godard, J. Hackin, Les Antiquités bouddhiques de Bamiyan, — MDAFA, t. II, Paris, 1928, 21, fig. 6, pl. XXII.
[37] J. Hackin, Nouvelles recherches archéologiques à Begram, fig. 100.
[38] С.Ф. Ольденбург, Гандхарские скульптурные памятники, — ЗКВ, V, Л., 1925, стр. 175 и др.
[39] «Скульптура и живопись древнего Пянджикента», табл. XXVII-XXXIX.
[40] «Скульптура и живопись древнего Пянджикента», стр. 73 и др.
[41] V.A. Smith, A history of the fine arts in India and Ceylon, Oxford, 1911, p. 364.
[42] См.: S. Beal, Si-yu-ki, Buddhist reports of the Western World, London, 1881, XXIX; The life of Hiuen-Tsiang, London, 1914, p. 47.
[43] «Скульптура и живопись древнего Пянджикента», стр. 79 и сл., табл. X-XII.
[44] См.: J. Meunie, Shotorak, — MDAFA, t. X, pl. XXXIII, №107.
[45] A.M. Беленицкий, Об изображении зооморфных тронов в среднеазиатском изобразительном искусстве, — ИАН ТаджССР, Душанбе, 1962.
[46] I.E. van Lohuizen de Leew, The Scythian Period, Leiden, 1949.
[47] J.Ph. Vogel, La sculpture de Mathura, — «Arts Asiatiques, XV, Paris, 1930, pl. XXXVII, a.
[48] D. Schlumberger, Descendents non-méditerranéens de l’art grec, p. 147.
[49] Г.А. Пугаченкова, Образ Чаганианского правителя на терракотовом медальоне из Халчаяна, стр. 89 и др.
[50] A. Godard, Y. Godard, J. Hackin, Les Antiquités bouddhiques de Bamiyan, p. 65, fig. 25.
[51] J. Marshall, Taxila, vol. III, Cambridge, 1951, pl. 144, №72; en. pl. 145, pl. 77.
[52] A. Cunnigham, Coins of the Indo-Scytians, 1888, fig. 19; R. Whitehead, Catalogue of the coins in the Penjab Museum, Lahore, vol. I, Oxford, 1914, pl. XX, X.
[53] A. Cunnigham, Coins of the Indo-Scytians, fig. 18.
[54] W.H. Roscher, Ansführliches Lexicon der griechischen und Römischen Mythologie, s.v. Helios.
[55] E. Herzfeld, Die Sassanidische Quadrigae Solis et Lunae, — AMI, №3, p. 429; Der Thron des Khosro, — «Jahrbuch d. Preussischen Kunstsammlungen», 1920, S. 105.
[56] A. Grünwedel, E. Waldschmidt, Buddhistische Kunst in Indien, Abb. 27.
[57] J. Hackin et J. Carl, Recherches archéologiques au Col de Khair-Khaneh prés de Kaboul, — MDAFA, t. VII, 1928, pl. XIV.
[58] A. Godard, Y. Godard, J. Hackin, Les Antiquités bouddhiques de Bamiyan, pl. XXI.
[59] M. Benisti, A propos de la Sculpture de Bharhut, «Arts Asiatiques», Paris, 1958, t. V, №2, p. 135, fig. 9.
[60] A.M. Беленицкий, О работе Пенджикентского отряда ТАЭ в 1959 г., — «Археологические работы в Таджикистане в 1959 г.», вып. VII, Душанбе, 1961, стр. 100.
[61] W.B. Henning, Mitteliranisch, — «Handbuch der Orientalistik», Bd IV, Iranistik, Abschnitt I, Linguistik, Leiden — Köln, 1958, S. 54; cp. J. Marshall, Taxila, III, pl. 145, №81.

Рис. 32. Резное дерево. Пенджикент.
(Открыть Рис. 32 в новом окне) |
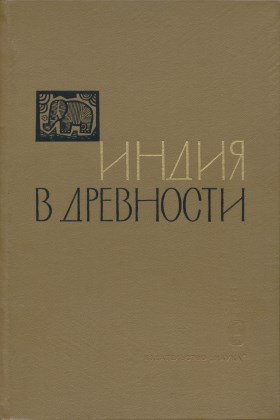 А.М. Беленицкий
А.М. Беленицкий





