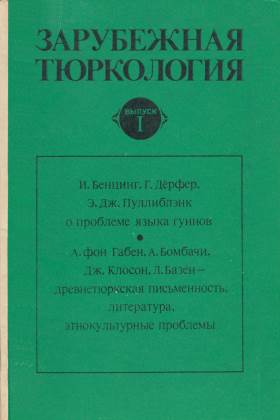 Л. Базен
Л. Базен
Человек и понятие истории
у тюрков Центральной Азии в VIII в.
(Пер. с фр. Д.Д. и Е.А. Васильевых)
Известные к настоящему времени древнейшие тюркские тексты представляют собой надписи, высеченные на надгробных камнях, находящихся в Центральной Азии, на той территории, где на исходе VI в. из конфедерации тюркских племён, сплотившей кочевых пастухов и воинов, сформировались могущественные государства с ярко выраженными культурными традициями, государства, создавшие благоприятные условия для развития весьма оригинальной культуры.
Несмотря на постоянные политические, дипломатические, военные, торговые отношения с иранским и китайским миром и Византией, все эти тюркские государства в Центральной Азии вплоть до конца VIII в. строго сохраняли свои собственные экономические, социальные и религиозные традиции. Среди этих последних главную роль играл обряд погребения. Требовалось, чтобы он имел определённую форму, сопровождался публичным хвалебным словом о покойном с целью обессмертить его славу, если это был сколько — нибудь значительный воин.
Введение у тюрков (заметим, — к VI в.) письменности, специально приспособленной к их языку и происшедшей от иранских прототипов, позволило усилить и зафиксировать устную надгробную речь, дополняя её надписями, высеченными на вечных камнях (бенгю таш — тюркское название для надгробных стел).
В настоящее время восстановлено и описано более сотни этих высеченных на камнях эпитафий различной длины: от нескольких слов до пространных, хорошо составленных текстов. Именно они и являются древнейшим свидетельством языка и общественной мысли тюрков. Наиболее архаичные, — лаконичные и наименее обработанные, — датируются приблизительно VII в., новейшие могут быть отнесены примерно к первому тысячелетию. Однако группа важнейших и лучше всего датированных памятников принадлежит, несомненно, к VIII в. и находится на территории современной Монголии. Историческая ин-
(345/346)
терпретация этих памятников наиболее надёжна, благодаря проверке сведений путём сопоставления их с другими источниками той эпохи (в особенности — с китайскими). Среди текстов, содержащих главные исторические документы, следует назвать эпитафии военачальнику и государственному деятеле Тоньюкуку (на двух стелах, воздвигнутых в 725 г. вблизи реки Толы, недалеко от Улан-Батора) , принцу Кюль-тегину, умершему в 731 г. , и его старшему брату, императору Бильге-кагану (зятю Тоньюкука), умершему в 735 г. Эти две последние стелы находятся в верховьях реке Орхон, правого притока Селенги, и известны как «орхонские надписи» (I и II).
Древнетюркские надписи VIII в. из Монголии — и особенно эти три эпитафии, — имеют весьма богатое и хорошо истолкованное историческое содержание. Именно поэтому мы примем их за основу данного этюда.
Для сравнений под наименованием енисейские надписи мы будем в некоторых случаях упоминать многочисленную группу эпитафий на памятниках, находящихся в бассейне великой сибирской реки Енисей, на территории современных советских автономных республик Хакасии и Тувы. Надписи этих эпитафий выполнены на древнетюркском языке, но они более краткие, без дат, хотя несомненно относятся к периоду, близкому упомянутым памятникам. Полагают, что в большинстве своём они были оставлены кыргызами, которые обитали в этих районах. Для того чтобы не усложнять это слишком краткое изложение, мы оставим в стороне аналогичные древнетюркские эпиграфические тексты, рассеянные в других регионах Центральной Азии (особенно западнее, в долине Таласа).
* * *
Первое замечание, которое следует сделать, состоит в том, что история в тюркских надписях Центральной Азии, признанных древнейшими тюркскими текстами исторического содержания, отражалась стихийно как естественная тема обряда погребения.
Одной из основных задач этого обряда было сохранение в памяти потомков некой идеальной жизни погребённого героя и одновременное сохранение по ту сторону его земной смерти его социальных групповых связей. Хвалебное надгробное слово (если его увековечивают в виде высеченного на камне текста) было задумано с целью произвести глубокое воздействие: оно продлевает жизнь имени, славы, памяти о герое; оно содержит также напоминание сородичам или соплеменникам о той роли, которую он играл в жизни общества, о его принадлежности к определённой социальной группе.
(346/347)
Таким образом, избегали как бы двух опасностей: усопший, исчезая из бытия или разрывая гармонические отношения, которые связывали его с земным обществом, по ту сторону жизни становится безучастным, более того, — враждебным этому обществу. Сохранение же усопшим некоего определённого существования и своего социального статуса, оберегаете им живых соплеменников — таковы две цели, которые эффективно достигались с помощью надгробного слова, а лучше с помощью эпитафии, высеченной на «вечном камне». Именно поэтому в эпитафии надо упомянуть не только хорошо отредактированные важные события (и, среди прочих, возвышенные деяния) земной жизни героя, но и основные черты его общественного положения и его деятельности в лоне своей группы. Индивидуальная история в эпитафийной эпиграфике строго обязательно связывается в определённом аспекте с историей общественной жизни индивидуума. Эта связь особенно возвышенно показана в трёх крупнейших древнетюркских надписях Монголии, которые мы упоминали выше. Эти памятники также далеки от того, чтобы быть просто индивидуальными биографиями: насыщенные фактами, они представляют собой достоверный исторический синтез, показывающий умершего в каждый важный момент его жизни в лоне своей общественной среды. При этом, все внимание редактора задерживается на этих моментах. Редактор очень часто (чаше, чем это необходимо для показа истории общественной жизни) оказывает влияние на рассказ о личной жизни героя. Такова эпитафия Тоньюкуку (где, как и в большинстве древнетюркских надгробных надписей, речь ведёт сам умерший), начинающаяся со следующей фразы: «Я сам, мудрый Тоньюкук, получил воспитание под влиянием культуры народа табгач. (Так как и весь тюркский народ был в подчинении у государства Табгач)». [1]
Видно, что здесь политический контекст (тюркское подчинение и китайский протекторат) в большей степени, чем например родовой, связан с обстоятельствами рождения героя, а вопрос о его отце и матери нигде не возникает. Далее в надписи продолжается не просто рассказ о личной жизни Тоньюкука, о его детстве и юности, а рассказ о политических событиях, которые наполняли тот период его жизни. Здесь — первое крупное восстание тюрков против китайцев, подавленное из-за недостаточной дисциплины кочевников, затем — организация тюркских «маки» для войны за независимость, в которой герой будет играть большую роль.
Точно также и в эпитафии императору Бильге-кагану. Детство и юность покойного, кроме как в кратком вступлении, не упомянуты. Однако имеется детальное и связное изложение политических, военных и династийных перипетий соответствующего периода. Дейст-
(347/348)
вия и подвиги Бильге-кагана (как и его брата Кюль-тегина в эпитафии последнему) излагаются только в той мере, в какой они затрагивают жизнь общества, государственного образования тюрков: военные кампании, политический выбор, организация племён, меры, принятие для экономического процветания и для политического господства тюрков, дипломатия, религиозные акты, имеющие государственное значение.
В этих условиях от индивидуума, и особенно вождя, задумавшего для социального и национального объединения в религиозных целях создать для погребального обряда эпитафию какому-либо выдающемуся человеку, требуются обязательное историческое осознание, социально-исторический подход и одновременно — правдивость, достоверность фактов и их логическая связь.
Поэтому древнетюркские надписи Центральной Азии, составляющие часть надгробного похвального слова какому-либо лицу (более или менее значительному), имеют тенденцию оканчиваться историческим синтезом всего периода его жизни. Воскрешение в памяти человека, во время (или после) его погребения, приводило к воспоминаниям об истории его эпохи, которая понималась шире истории одной жизни. Но, с другой стороны, и общая история была изложена в масштабе этой человеческой жизни. Поле зрения такого аутентичного историка, каким являлся редактор эпитафии, по логике ритуала оказывается практически ограниченным периодом земного существования его героя. Обычно рассказ о событиях начинается с рождения героя и заканчивается описанием (сжатым или пространным) его погребения. Но это последнее свободно может быть и пропущено, как это имеет место в надписи в честь Тоньюкука. С другой стороны, изредка встречаются и воспоминания о том периоде, который предшествовал жизни героя. Однако упоминание таких событий очень кратко и туманно, как например «история бытия» в I и II Орхонских памятниках, которая претендует на то, чтобы вести своё начало от сотворения мира: «Когда возникло вверху голубое небо и внизу бурая земля, между ними обоими возникли сыны человеческие. Над сынами человеческими воссели мои предки Бумын-каган и Истеми-каган. Сев, они поддерживали и устраивали племенной союз и установления тюркского народа». [2]
Этот отрывок демонстрирует огромнейшие усилия, когда-либо прилагаемые редакторами древнетюркских надписей Центральной Азии с целью сделать династию, насколько это возможно, древнее. И вот в таком тексте, высеченном в 732 г., точно устанавливаются исторические события, более древние, чем те, которые могли бы зафиксиро-
(348/349)
вать тюркские каганы Бумын и Истеми, жившие в VI в. н.э. , но которых воспринимают уже как современников первых людей.
Бессилие этой, возникшей из погребального обряда, исторической формы охватить обширный период человеческой истории чётко осознавалось. То, что введение письменности стало сравнительно недавней характерной чертой этой цивилизации, позволяет объяснить, почему не было возможности хранить в памяти слишком древние события.
Ограниченные, в основном, рамками одной человеческой жизни, исторические фрагменты древнетюркских эпитафий, вплоть до VIII в. также базируются на относительной хронологии одного умершего героя, годы жизни которого (иногда неопределённые, чаще — зашифрованные) служат вехами для того, чтобы определить хронологию повествования.
Наиболее ранняя (около 725 г.) из тех трёх крупнейших надписей Монголии, которые мы упоминали, — надпись в честь Тоньюкука, — начинает своё повествование, как это видно, с рождения героя. После чего в ней соблюдается очевидный хронологический порядок, но без каких-либо ссылок на даты. Самое большее, — это то, что в заключении текста Тоньюкук объявляет: «Теперь я состарился». Автор этого текста очень мало озабочен хронологией, хотя и обнаруживает в остальном определенные интеллектуальные качества: ясность, логику, заботы об истолковании и построении.
И наоборот, две орхонские надписи, выполненные несколько позднее, в 732 и 735 гг. (эпитафии в честь Кюль-тегина и Бильге-кагана), содержат детальную хронологию лет жизни обоих героев. Приведём в качестве примеров следующие отрывки: «По смерти моего отца-кагана мой младший брат Кюль-тегин остался семи лет от роду... Шестнадцати лет он вот что сделал для расширения государства и власти моего дяди-кагана... Когда ему был двадцать один год, мы сразились с Чача-Сенгуном». [3] «На семнадцатом году я ходил с войском на тангутов... На двадцать втором году я пошёл против табгачей... Когда мне было двадцать шесть лет, народ чик с кыргызами стали мне врагами». [4]
Эта хронология по годам жизни покойного также весьма наглядно представлена в группе надписей Енисея, очень всё-таки «примитивных» по содержанию и исполнению. В частности, нередко упоминается возраст, которого достиг герой ко времени своей смерти. И это — в обществе, где бытовал такой же тип счёта, который существует для даты смерти и у нас. Хронологическую достоверность этих текстов симметрично обеспечивают до некоторой степени даты рождения и погребения в соответствии с той системой, по которой объявляется: «Я родился во время десятой луны» (считая за первую — лу-
(349/350)
ну зачатия). Это утверждение, которое могло бы на первые взгляд показаться наивным, является следствием хронологической системы чисто относительных определений, составляющих цикл жизни человека. Такого рода факты ясно характеризуют цивилизацию, в которой именно человек, индивидуум, будучи одновременно слитым воедино с социальной группой устанавливает историческую меру.
Неудобство хронологии, относительной к каждому человеческому индивидууму, не мешало её пользователям, древним тюркам. Однако они испытывали необходимость параллельно прибегать иногда и к помощи других систем. Среди этих последних — одна из наиболее простых, которая к тому же сохраняла принцип человеческого эталона времени, заключалась в выборе в недрах социальной группы привилегированного существа, правителя, который и мог служить объективной исторической справкой, т.е. они датировали события по годам возраста или по годам правления кагана. Так несколько эпизодов жизни Кюль-тегина были датированы в его эпитафии ссылками на возраст его брата, императора Бильге-кагана.
Кроме этого, в результате возраставшего воздействия китайской цивилизации, тюрки VII в. начинают использовать в своих эпитафиях, чтобы обозначить некоторые даты исключительной важности (например, смерть героя, погребение, исполнение надписи), календарь объективный, с определениями не человеческими, а астрономическими. Это «двенадцатилетний животный цикл» — упрощённая адаптация официального китайского календаря. Так один решительный шаг перенёс их к научной хронологии. В последующие столетия, и особенно в IX-X вв., в эпоху уйгурских династий, использование этого календаря засвидетельствовано уже во всех исторических документах, включая эпитафии.
Хронология в соответствии с «двенадцатилетним животным циклом» ставит комплексные проблемы, которые мы не имеем возможности здесь объяснить. Удовлетворимся лишь сообщением о том, что речь идёт о лунно-солнечном счислении, где каждый солнечный год был разделён на двенадцать (иногда тринадцать) лун и где каждые 12 лет в последовательном соответствии именам неких символических животных (со всеми астрологическими вариациями, допускающими это) были сгруппированы по циклам, которые бесконечно повторялись. Так в эпитафии Бильге-кагана (речь ведёт его сын), новый правящий каган может прочитать: «Столько приобретя (завоевав), отец мой хан умер в год Собаки, в десятый месяц, двадцать шестого числа. В год Свиньи, в пятый месяц, в двадцать седьмой день, я устроил похороны». [5] (Две эти дате последовательно соответствуют 25 ноября 734 г. и 22 июня 735 г. по юлианскому календарю но-
(350/351)
вой эры.) Но в тюркских надписях Центральной Азии, в VIII в. такая объективная хронологическая точность была явлением исключительным. Наиболее широко применяемым методом продолжает оставаться счёт по годам жизни покойного.
* * *
Поскольку эти эпитафии ограничены жизнью одного человека и измерены в её масштабах, объём и хронологическая точность которых недостаточны для современных требований исторического понимания, то принцип, главенствующий при составлении этих эпитафий, обусловливал потери в историческом изложении. Но зато в более широком масштабе он обеспечивал достоверность и реализм.
Общественный и религиозный характер этих эпиграфических текстов на стелах, воздвигнутых для всеобщего обозрения в соответствии с погребальным обрядом, исключал всякую неискренность. В самом деле, для уверенности в их религиозной действенности, а также для того, чтобы они могли сохранить для покойного аутентичное существование в потустороннем мире и весомо поддерживать его связи с собственной социальной группой, было необходимо соответствие этих текстов действительности, отсутствие в них ошибок и лжи и максимальное отражение в них жизненной реальности. Всякое искажение фактов влекло за собой, таким образом, и неверное изображение личности покойного, невыгодное для переживших его соплеменников, и могло вызвать его гнев против живых. Это было санкционировано и общественным недоверием, поскольку речь шла о событиях, ещё живых в памяти современников, и той нелюбовью, которая в результате грозила подорвать контакты общества с покойным.
Значение, придаваемое достоверности эпитафии, было, по-видимому, велико. Поэтому, по крайней мере в эпитафиях Тоньюкуку и Бильге-кагану, констатируется, что́ именно интересовало их при жизни с целью предохранить от каких-либо изъянов подготовленную основу текстов, которые должны будут высечь на их могилах. В надписи в честь Тоньюкука совершенно очевидно, что весь текст был составлен самим покойным. В частности, любопытным свидетельством этого является воспоминание о его старости, а не о его смерти. Однако в эпитафию Бильге-кагану, составленную им лично, его сын внёс несколько дополнений, чётко выделенных. В обоих этих случаях и Тоньюкук и Бильге-каган речь ведут от своего имени в форме первого лица единственного числа. Многочисленные эпитафии той же эпохи составлены точно так же. Реже речь ведёт близкий родствен-
(351/352)
ник покойного, — таким является сам Бильге-каган в эпитафии своему младшему брату Кюль-тегину.
В любом случае правдивость представляется основным законом этих ритуальных текстов. Хотя определённо чувствуются многочисленные повторы, попытки хвалебных преувеличений, они никогда не приводят к неправдоподобности, и очевидны предосторожности, которые были приняты в этом отношении. Например, когда Бильге-каган упоминает крайние пределы своих военных походов, он пытается распространить их на словах до самых «границ мира», которыми являлись для него Тихий океан и горы Тибета. Но, как это оказывается в действительности, он старается лишь приблизиться к этим идеальным пределам, он сопротивляется искушению и пишет, как бы сожалея: «Вперед (на восток) я прошёл с войском вплоть до Шантунской равнины, немного не дошёл до моря; направо (на юг) я прошёл с войском вплоть до девяти эрсенов, немного не дошёл до Тибета…» [6]
Когда, вопреки всему, он поддается всё же порыву бахвальства, то делает это в достаточно общих выражениях, которые не могут повлечь за собой какого-либо разоблачения: «...я привёл в порядок и устроил народы четырёх стран света, ... имеющих головы заставил склониться, а имеющих колени заставил согнуться. Так как вверху Небо, а внизу Земля мне были благосклонны, я, мой народ, то чего он раньше не видел глазами, не слышал ушами...» [7] (Примечательно, что в самой середине этого бравурного отрывка он не забывает упомянуть свой народ как совместного участника своих успехов, т.е. он не теряет ни ощущения реальности, ни ощущения своих социальных связей. )
Неприятные истины в эпитафиях не скрываются. Самое большее, что наблюдается время от времени в этом плане, — это эвфемизмы. Но часто стиль остаётся без прикрас, прямолинейным. Вот как Бильге-каган напоминает своему народу о восстаниях и отделениях племён, которые вели гражданскую войну или были уничтожены его дядей и предшественником: «Тюркский народ, покайся! Ты сам провинился и сделал низость (по отношению) к твоему кагану, возвысившему тебя ради твоей же преданности, и по отношению к твоему племенному союзу, хорошему по своим качествам и делам. Откуда пришли вооружённые люди и рассеяли тебя? Откуда пришли копьеносцы и увлекли тебя? Ты сам, о народ священной Отюкэнской черни, ушёл. То ходил ты на восток, то ты ходил на запад, и в странах, куда ты ходил, вот что было для тебя хорошего: твоя кровь бежала, как вода, твои кости лежали, как горы; твоё крепкое мужское потомство стало рабами, твоё чистое женское потомство стало рабынями. Вследствие твоего непонимания и вследствие твоей низости мой дядя-каган отлетел». [8]
(352/353)
(Только в этой последней фразе, из уважения к памяти кагана, появляется эвфемизм «отлетел», вместо «был убит», хотя этот император был обезглавлен, как это известно из китайских анналов.)
Искренность в изложении событий и в их оценке сопровождается некоторой сентиментальной непосредственностью, которая является одной из наиболее примечательных черт этой эпиграфической литературы. Точно также старый Тоньюкук, в конце жизни, наполненной военной славой, совершенно очевидно не скрывает своих побед над врагами, одержанных в нарушение приказов центральной власти, представленной тогдашним каганом, отцом царствующего правителя Бильге-кагана. Он говорит об этом последнем, своем зяте, с большой снисходительностью. Что касается Бильге-кагана, то будучи союзником (а в действительности вассалом) китайского императора, он не колеблется броситься в атаку против китайской цивилизации, которую он обвиняет в том, что она изнеживает дух тюрков-воинов. И он открыто преподносит свой договор с Китаем, как продиктованный простыми соображениями материальной выгода, исповедуя полный надменности племенной национализм: «Ничего особенного не было в Отюкенской черни. Но именно Отюкенская чернь поддерживала племенной союз. Обитая в этих местах, я пришёл к соглашению с народом Китая, который давал нам без ограничения золото, серебро, парчу, бархат». [9]
И этот же самый Бильге-каган, демонстрируя полную безграничность своей власти, которая распространяется, по его словам, «на четыре стороны света», признается в тревоге, которую у него вызывают непоседливость его бегов, народа и их будущее: «О тюркские начальники и народ, слушайте это! Я вырезал здесь, как вы, собрав тюркский народ, созидали племенной союз, как вы, погрешая, делились, я всё здесь вырезал. Всё, что я имел сказать, я вырезал на вечном камне. Смотря на него, знайте вы, тюркские теперешние начальники и народ! Покорные престолу начальники, вы ведь склонны впадать в ошибку?!» [10]
Эта искренность, эта непосредственность, придающие этим текстам историческую ценность и глубокую документальность, ни в коей мере не являются признаком беспристрастности. Современная концепция исторической объективности и беспристрастности совершенно чужда этим людям, для которых основным является единственно истина. Они не задаются вопросом о том, был ли другой образ жизни или мышления, чем у них, определённым оправданием события или права.
По их представлениям, единственная достойная человека форма бытия была связана с миром тюркского пастуха и воина. А единственной мыслимой социальной структурой представлялась племенная органи-
(353/354)
зация, с сильно развитой военной иерархией, где племена были объединены под властью кагана — абсолютного правителя, указанного самим Небом. И Небо, «Тенгри» — высшее божество древнетюркского пантеона, — которое и само стремится затмить всех остальных, было, разумеется, Небом тюркским, «тюрк Тенгри». Оно вдохновляет и поддерживает тюркского кагана, обеспечивает победу, тюркским войскам, непреходящий характер существования тюркского народа и его гегемонию над всеми его соседями. Указания Неба, общий космический порядок предписывают повиновение тюрков кагану, а других народов — тюркам. Это повиновение не может быть изменено, поскольку это сразу же нарушит общий космический порядок: «Народ токуз-огузов был мой собственный народ; так как Небо и Земля пришли в смятение, он стал нам врагом». [11] «Когда Небо вверху не давило тебя, и земля внизу не разверзалась под тобой, о тюркский народ, кто мог погубить твоё государство?» [12]
Политическая доктрина, которая выделяет тюркские надписи VII в. в Монголии, является чем-то вроде монархического национализма божественного права. Вселенная иерархически представлена как племя: над массой народов «четырёх сторон света» властвует привилегированная группа объединённых тюркских племён, над которыми, в свою очередь, владычествует императорский клан, и во главе этого клана стоит каган, — хозяин вселенной, поставленный Небом. Каждое тюркское племя имеет своих рабов обоего пола, из числа военнопленных или угнанных. Над ними находятся простолюдины, «тёмные массы» (как гласят надписи), которыми управляет аристократия из военачальников и богатых скотоводов, иерархически организованных и подчиненных бегу, который является вассалом кагана.
Эпиграфические тексты ясно выражают консервативные интересы: всякая политическая, социальная или религиозная перемена, всякое искажение древних обычаев, в какой бы то ни было сфере, считаются дурным. Таким образом, в Центральной Азии VIII в. у тюрков, как и у их соседей, экономическое и культурное влияние Китая (не говоря уже о его чисто политическом влиянии в качестве посредника в отношениях между предводителями племён) чувствовалось все более и более. По мнению таких глубоко консервативных правителей, как Тоньюкук или Бильге-каган, оно представляло опасность, о которой те объявляли в нескольких репризах (хотя и считались при этом союзниками китайского императора): «У народа табгач... была речь сладкая, а драгоценности мягкие (т.е. роскошные, изнеживающие); прельщая сладкой речью и роскошными драгоценностями, они столь сильно привлекали к себе далеко (жившие) народы. (Те же), поселясь вплотную, затем усваивали себе там дурное мудрование». [13]
(354/355)
Тюркский каган берёт также на вооружение и довода против осёдлого образа жизни, занятий земледелием в долинах. Он заклинает сохранить жизнь кочевников и скотоводов и постоянно иметь центром перемещений горную зону священных лесов: «О тюркский народ, когда ты идёшь в ту страну, ты становишься на краю гибели; когда же ты, находясь в Отюкенской стране, (лишь) посылаешь караваны (за подарками, т.е. — за данью), у тебя совсем нет горя; когда ты остаёшься в Отюкенской черни, ты можешь жить, созидая свой вечный племенной союз...». [14]
Приведённые отрывки ясно показывают, как центральноазиатские тюркские верховные правители VIII в., вдохновлённые присущими им консервативными стремлениями, становятся политическими доктринёрами, расценивающими исторические события в соответствии с их частным видением мира и общества и охотно раздающими дидактические советы и предостережения.
Эта тревога за догмы, отпечаток которой не носят предшествующие, более «примитивные» тексты, в точности передаёт беспокойство правящих традиционалистских кругов перед быстрой эволюцией воззрений, — следствием всё более тесных контактов с цивилизацией, интеллектуально и технически более прогрессивной.
Эта эволюция, впрочем, ярко проявляется и у самого Бильге-кагана (в то время, как оказывается, Тоньюкук, его престарелый тесть, твёрдо этому противится). Всё более подчёркивая советы не доверять китайцам и их образу жизни, тюркский каган не пренебрегает, тем не менее, использованием их календаря (в упрощённой форме «двенадцатилетнего животного цикла». Кроме того, в таком важном религиозном акте, как погребение его брата Кюль-тегина, он призывает участвовать китайских мастеров, чтобы соорудить в честь героя храм и высечь (частично по-тюркски, частично по-китайски) надпись, которая дошла до нас почти полностью.
И наконец, Бильге-каган, желающий казаться консерватором, является, тем не менее, единственным из авторов древнетюркских эпитафий той эпохи, дерзнувшим высказать разумное соображение по поводу традиции погребального обряда. Он от имени здравого смысла доходит до критики тех крайностей, которые обычно происходили во время погребального оплакивания: «Мой младший брат, Кюль-тегин, скончался, я же заскорбел; зрячие очи мои словно ослепли, вещий разум мой словно отупел, и сак я заскорбел. Время распределяет Небо, сыны человеческие все рождены с тем, чтобы умереть. Так с грустью думал я, в то время как из глаз моих лились слёзы, и сильные вопли исходили из сердца, я снова и снова скорбел. Я предавался печали, думая: „Вот (скоро) испортятся очи и брови
(355/356)
обоих шадов и идущих за ними моих младших родичей, моих огланов, моих правителей, моего народа!”». [15]
Это увещевание умерить ритуальные стенания и философская осмотрительность, которой они сопровождаются, чётко обозначают у Бильге-кагана рациональную эволюцию мышления.
* * *
Крупнейшие тюркские надписи VIII в. из Монголии (в отличие от большинства надписей Енисея) выражают в весьма общей форме образ мышления, который совершенно не примитивен, в котором преобладают логические рассуждения и где чётко изложены понятия относительной хронологии и причинности. Тем не менее, в тех текстах, которые содержат понятия причинности, наблюдается определённая путаница между «причиной» и «следствием». Этому благоприятствует языковая структура, которая не позволяет чётко отличать одно от другого. И действительно, — одна и та же частица означает «для того чтобы...», «с целью...» и «потому что...», «оттого что...». Чаще всего события были изложены в объективной последовательной связи, но к этому почти всегда присовокупляется и рассуждение о конечной цели.
Намерения главных действующих лиц, а также (что настойчиво повторяется) воля тюркских божеств — Неба, Земли и Вод, которые выступают посредниками между вождями и правителями, — направлены на благо тюрков.
Таким образом, Бильге-каган в качестве следствия «приобретений» своего отца для трона (в особенно критический момент, когда китайский император хотел уничтожить остатки политической организации покоренных тюркских племён) преподносит следующее: «Но вверху Небо тюрков и священная Земля и Вода тюрков так сказали: „Да не погибнет, говоря, народ тюркский, народом пусть будет”, — так говорили. Небо, руководя со своих высот отцом моим Ильтериш-каганом и матерью моей Ильбильгя-катун, возвысило их над народом». [16]
Такая форма религиозного толкования исторических событий не является, впрочем, чисто «тюркской идеологией VIII в.». Нечто очень похожее обнаруживается почти у всех восточных или западных историков античности и средневековья. Это продолжается также и у современных авторов, принадлежащих к самым различным цивилизациям.
Это не является, тем не менее, преобладающим у авторов тюркских эпитафий VIII в. из Центральной Азии. Вопреки некоторой видимости, они вводят это только в ограниченном числе критических за-
(356/357)
мечаний, с целью объяснить неожиданное восстановление ситуации, благоприятствующей политике и оружию тюрков.
Это носит в определённой степени более патриотический характер, чем мистический. Для событий, развитие которых казалось соответствующим разумному предвидению, приводимое объяснение почти всегда оказывается «природным».
Что же касается содержания в этих эпиграфических текстах исторической информации, они представляют уникальную ценность и в большой степени удовлетворяют любопытство современной науки.
Конечно, как и все древние исторические повествования, они уделяют весьма большое место династийным и военным событиям. Поскольку, с другой стороны, они письменно повествуют о доблести умершего героя, там встречаются многочисленные пассажи, упоминающие о знаменательных деяниях, что более соответствует эпической форме, нежели чисто исторической, где подробно излагаются отважные действия героев: «Затем пришло пятитуменное войско табгачского Онг-тутука; мы сразились; Кюль-тегин в пешем строю бросился в атаку, схватил Онг-тутука с вождями вооружённою рукою и с оружием представил его кагану. То войско мы там уничтожили». [17]
Тем не менее, как это видно из приведённого примера, упоминание индивидуальных подвигов остаётся кратким, почти скромным, в сравнении с другими текстами подобного жанра. Кроме того, изложение династийных и военных событий никогда не отделяется от политического и дипломатического контекста и от контекста, который мы теперь назвали бы «экономическим». Здесь речь идёт о материальном положении племён, их стадах, определении продовольственных запасов, имущества и торговли, которыми располагали тюрки (все это, правда, в общих определениях, без точного перечисления). Материальное благосостояние является, несомненно, одной из общенациональных целей, о чём говорит далее правитель. «Золото и блестящее серебро, их хорошо тканые шелка, их добытые из хлеба напитки, их верховых лошадей, их жеребцов, их чёрных соболей и их голубых белок я добыл для моего тюркского народа и всё устроил... безграничным сделал», [18] — так говорит Бильге-каган в своей собственной эпитафии.
Географический контекст содержит, в свою очередь, тщательную топонимику, которая позволяет нам проследить по карте пути племён. Регулярно упоминаются основные космические направления, в соответствии с системой ориентации, в основание которой положен восход Солнца («вперёд» значит «на восток», «назад» — на запад, «направо» — значит на юг, «налево» — на север). Кроме хронологических данных, о которых шла речь выше, часто встречаются
(357/358)
указания, имеющие отношения к временам года (в соответствии с системой четырёх времён года, аналогичной европейской). В ряде случаев есть указания, относящиеся к периодам суток, без которых не может быть временно́й точности. Но всё же деления суток на часы у центральноазиатских тюрков в обычае, по-видимому, не было.
Пространные китайские исторические летописи, а также различные западные тексты (особенно византийские), позволяют проверить целый ряд сведений путём сопоставления их с фактами, упомянутыми центральноазиатскими тюрками VIII в. в их эпитафиях. Эти сопоставления ясно показывают серьёзность и высокую документальную ценность древнетюркских эпиграфических текстов. Они не только никогда не грешили против истины, но в целом ряде сюжетов привносили ещё и массу ценной информации, отсутствующей в других источниках.
С точки зрения современного объективного понимания истории древнетюркские эпитафии можно упрекнуть в чисто субъективном изложении фактов, в суждениях о значении тех или иных фактов в соответствии с направлением мысли их редактора. Это создавало возможность неправильной оценки основного назначения этих текстов, которое, по-видимому, было религиозным. Это также мешало видеть весьма неравномерный интерес к тем фрагментам текстов, которые повествуют не только о развитии исторических событий, но ещё и о психологии человека и народа, о мотивации, о различных идеологических тенденциях и об эволюции образа мышления тюркских кочевников Центральной Азии этой эпохи.
* * *
Нам представляется в результате, что древнетюркские надписи Монголии повествуют о примечательном периоде пробуждения исторического сознания у восточных кочевников, долгое время остававшихся в стороне от великих осёдлых цивилизаций. Эти кочевники сохранили очень архаичные формы социальной и экономической организации и лишь недавно стали употреблять письменность. История умерших героев как прямой и непосредственный результат погребального обряда раздвигается до истории эпохи в целом. Человек, индивидуум остаётся в центре истории, и продолжительность его жизни фиксируется хронологическими рамками. Но так как индивидуум тесно связан и действует совместно с обществом и государством, его история является также и их историей. Из этого следует, что зарождение исторического жанра, в котором органично сочетались личные и государственные интересы, является очень примечательным для VIII в. н.э.
(358/359)
Примечания переводчика. ^
[1] Цитируемый фрагмент текста соответствует 1-й строке надписи в честь Тоньюкука (С.Е. Малов, Памятники древнетюркской письменности, М.-Л. , 1951, с. 64).
[2] Цитируемый фрагмент текста соответствует 1-й строке Большой надписи в честь Кюль-тегина (там же, с. 36).
[3] Цитируемый фрагмент текста соответствует строкам 30-32 Большой надписи в честь Кюль-тегина (там же, с. 40).
[4] Цитируемый фрагмент текста соответствует строкам 24-26 надписи в честь Бильге-кагана (С.Е. Малов, Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии, М.-Л. ,1959, с. 20 [21]).
[5] Цитируемый фрагмент текста соответствует строке Ха 10 надписи в честь Бильге-кагана (там же, с. 23).
[6] Цитируемый фрагмент текста соответствует строкам Хв 9 надписи в честь Бильге-кагана (там же, с. 23).
[7] Цитируемый фрагмент текста соответствует строкам Хв 10-11 надписи в честь Бильге-кагана (там же, с. 24).
[8] Цитируемый фрагмент текста соответствует строкам 22-24 Большой надписи в честь Кюль-тегина (С.Е. Малов, Памятники древнетюркской письменности, с. 39).
[9] Здесь перевод толкования фрагмента текста Л. Базеном; фрагмент соответствует строкам 4-5 Большой надписи в честь Кюль-тегина (там же, с. 34).
[10] Цитируемый фрагмент текста соответствует строкам 10-11 Большой надписи в честь Кюль-тегина (там же, с. 35).
[11] Цитируемый фрагмент текста соответствует 44-й строке Большой надписи в честь Кюль-тегина (там же, с. 42).
[12] Цитируемый фрагмент текста соответствует 22-й строке Большой надписи в честь Кюль-тегина (там же, с. 39).
[13] Цитируемый фрагмент текста соответствует 5-й строке Большой надписи в честь Кюль-тегина (там же, с. 34).
[14] Цитируемый фрагмент текста соответствует 8-й строке Большой надписи в честь Кюль-тегина (там же, с. 35).
[15] Цитируемый фрагмент текста соответствует строкам 50-51 Большой надписи в честь Кюль-тегина (там же, с. 43).
(359/360)
[16] Цитируемый фрагмент текста соответствует строкам 10-11 Большой надписи в честь Кюль-тегина (там же, с. 37).
[17] Цитируемый фрагмент текста соответствует строкам 31-32 Большой надписи в честь Кюль-тегина (там же, с. 40).
[18] Цитируемый фрагмент текста соответствует строкам Хв 11-12 надписи в честь Бильге-кагана (С.Е. Малов, Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии, с. 24).
|