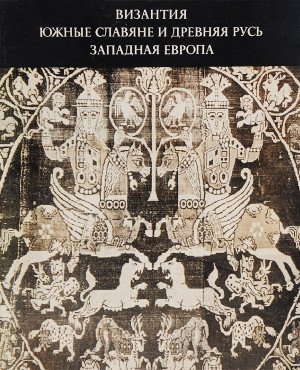 С.С. Аверинцев
С.С. Аверинцев
Золото в системе символов ранневизантийской культуры.
То эстетическое сознание, которое начало свою жизнь в эпоху Ренессанса и окончательно сформировалось к XIX веку, не слишком высоко ставит работу с драгоценными материалами. Оно не разрешает живописцу иметь на своей палитре разведённое золото, а скульптору — вставлять своим статуям глаза из самоцветов, как в своё время поступали греческие мастера. С золотом и благородными камнями имеет дело только ремесленник или полуремесленник особой квалификации, которого называют ювелиром и разве что в порядке снисходительного преувеличения причисляют к художникам. И эта дистанция между «художественной промышленностью» и собственно искусством в течение веков неуклонно возрастала. Дюрер ещё мог делать эскизы для ювелиров, и эта его деятельность не представляет собой решительно ничего инородного сравнительно с внутренним складом живописи и графики этого сына золотых дел мастера, для Рембрандта это было бы невозможно. Бенвенуто Челлини — не совсем полноправный, но всё же собрат Микеланджело, духовная дистанция между мастерами перламутровых табакерок и Ватто уже существенно определённее, но что сказать о ювелирах, обслуживавших европейского буржуа в героические времена Сезанна и Родена? Это уже никак не «меньшие братья» современных им художников, но существа, принадлежащие совсем другому миру, другому порядку вещей. Дело здесь не просто в том, что деградировал ювелир, но прежде всего в том, что изменил свою сущность художник, что искусство вышло из наивно-служебных отношений к жизненному феномену праздника (будь то культовый, «карнавальный», придворный или бюргерский праздник). Реставраторские усилия романтики и её поздних отголосков — вплоть до У. Морриса, мечтавшего о мусорщике-эстете в златотканой одежде, до английских «прерафаэлитов» и немецкого «югендштиля» — пропали втуне: живописца и ваятеля не удалось вернуть в средневековый цех и принудить побрататься с золотых дел мастером. Коренные эстетические аксиомы Нового времени воспрещают принимать до конца всерьёз такое художественное изделие, в облик которого входит слишком вещественный, навязчиво-роскошный, чувственно-гипнотизирующий блеск золота и драгоценных камней. Изделие это может быть «искусным», «стильным», «изящным»; каким оно не может быть, так это «значительным»; оно ничего не «значит». К нему приложима категория «изящного», в лучшем случае «прекрасного», но только не категория «возвышенного». Ему не дано вместить в себя духовную проблематику в сколько-нибудь ответственном смысле этих слов.
Но стоит нам выйти за пределы новоевропейского мира, и все будет по-другому. Чтобы контраст был содержательнее, начнём с той самой греческой классики, которая, как известно, послужила для Европы Нового времени «нормой и образцом» (Маркс). Часто цитируемую сентенцию, которую Фукидид вложил в уста Перикла и согласно которой демократические афиняне разрешали себе любить только такую красоту, которая «соединена с простотой» (или «с бережливостью»), [1] — сентенцию эту, по всей видимости, не приходится понимать особенно строго, коль скоро именно для демократических афинян V века их лучший ваятель и друг Перикла Фидий создал статую Афины Девы, с головы до ног светившуюся блеском золота и мерцанием слоновой кости. На этот скульптурный символ аттической демократии было истрачено
(43/44)
такое количество драгоценного металла (около двух тонн!), с которыми не часто приходится иметь дело золотых дел мастерам. А что сказать о самом прославленном произведении того же Фидия — о Зевсе Олимпийском? Судя по всему, что нам единодушно сообщают античные свидетели, это был шедевр высокого и строгого искусства, вобравший в себя предельное смысловое содержание целой эпохи и постольку сопоставимый с такими ключевыми символами европейской культуры, как, скажем, «Сикстинская Мадонна». Дион Хризостом, автор тонкий и вдумчивый, наверное, отвечает за свои слова, когда он в самых серьёзных выражениях описывает духовное благородство и нравственно-религиозную глубину воздействия, излучаемого статуей Фидия. [2] Но как нам представить себе, что это было, помимо всего прочего, гигантское ювелирное изделие — золотая мантия, золотые сандалии, золотой венок, золотые львы у подножия, золотые фигуры на пьедестале, драгоценные инкрустации по всей поверхности трона и скипетра и, наконец, слоновая кость для передачи самой плоти Зевса? И как соединить в воображении весь этот льющийся преизбыток блеска с монументальными размерами четырнадцатиметровой сидящей фигуры? Недаром греческий путешественник размышляет при созерцании олимпийского кумира о «великой щедрости эллинов», об их «готовности к тратам ради почитания богов»; [3] его слова — необходимая поправка к тому идеалу скромной и экономной простоты, который выставлен в словах Фукидида. Конечно, эти греки любили наготу атлетов и презирали тяжеловесную роскошь восточного деспотизма, — всё это так, но как раз поэтому особенно знаменательно, что отвергаемая новоевропейским эстетическим сознанием магия золота занимала в их художественной практике столь важное место. Фидий и Поликлет создавали свои лучшие шедевры из листов золота и пластин слоновой кости — из материала, с которым нечего было бы делать ни Микеланджело, ни Родену. Противопоказанное художнику Нового времени [4] не было противопоказано античному художнику. То, что сказано о греческой классике, разумеется, с тем большим основанием следует повторить о Византии, где любовь к драгоценному веществу становится почти манией и где в литературных описаниях статуй принято выражать сожаление, что статуя отлита не из чистого золота; византийцу хотелось видеть их золотыми все до единой! [5]
Почему, собственно, новоевропейское художественное творчество принуждено избегать драгоценных материалов? Мы сказали «творчество» — и этим едва ли не ответили на поставленный вопрос. Да, новоевропейский художник видит в себе «творца» и понимает свою работу как «творчество». Между тем ни античный, ни средневековый художник этого делать не могли, хотя по совершенно противоположным причинам: для первого не существовало библейской концепции божественного творческого акта, приводящего вещи от небытия к бытию, а для второго, напротив, эта концепция обладала безусловной конкретностью, не оставлявшей места для метафорических переосмыслений. Только Новое время осмелилось в характерном колебании между игрой и серьёзностью присвоить художнику неотчуждаемый атрибут теистического бога: способность «творить». Память об этой авантюре Ренессанса жива в европейских языках, включая русский. Словарь В.И. Даля после благочестивой поговорки «один бог творит» приводит выражения вроде «бессмертные творения знаменитых писателей»; более того, он не без юмора сталкивает лбами оба плана понятия «творчество», предлагая курьёзную антономасию к имени композитора Гайдна: «Творец оратории “Сотворение мира”». [6]
Но коль скоро художник есть уже не просто «искусник», но именно «творец», он обязывается творить так же, как его божественный прообраз: «из ничего». В силу принудительной необходимости это «ничто» может быть только метафорично, выявляя метафоричность самого понятия творчества. Но хотя бы метафору, хотя бы образ «ничто» материал должен по возможности являть собой. В самом деле, присутствие материала последовательно редуцируется на путях новоевропейского искусства к подобию «безвидного и пустого» хаоса или небытия. Податливый холст и масляные краски или непрочная бумага, в качестве безразличной белой пустоты принимающая отпечаток гравюры, — все они в сравнении с камешками мозаики, или стеклом витража, или грунтованной мелом иконной доской выявляют черту как бы онтологической ущербности: их вещность неплотна и эфемерна, — если это не совсем небытие, то во всяком случае «ещё-нe-бытие», пассивно дожидающееся прикосновения «творца», чтобы стать бытием, и притом любым, какого бы он ни пожелал. [7] Новоевропейский художник влечётся к такому материалу, материальность которого не говорит слишком громко своим собственным языком — языком природных стихий. Это вполне логично, ибо «творчество» протекает как раз в соперничестве
(44/45)
со стихиями, «создание» состязается с «первозданным»:
Нам четырёх стихий приязненно господство,
Но создал пятую свободный человек…
(О. Мандельштам)
Способность радоваться свету, его сиянию и блеску как чувственной утехе и одновременно духовному символу есть черта общечеловеческая; но если Рембрандт заставляет холст, покрытый масляными красками, давать образ золотого света, это как символ и симптом мировоззренческой установки в корне отлично от свечения средневековых витражей или византийских золотых фонов, спорит с этим свечением и его исключает — или, в лучшем случае, низводит до статуса «ювелирного ремесла». Холсту и краскам светиться не положено, в их натуральном виде образ золотого сияния никак не присутствует и постольку действительно «сотворён» Рембрандтом, сотворён «из ничего», между тем как золото и стекло светятся уже по своей «богосозданной» природе, и средневековый художник просто берёт в руки их светоносность, высвобождает её и распоряжается ею, подчиняя благочестивому и одновременно человеческому смыслу, но никоим образом «не создаёт» её. Он ощущает себя не «творцом», но слугой-распорядителем, хитрым и рачительным «икономом» (вспомним, что слово οἰκονομία, смысл которого, конечно, много шире нашего «экономия», но сохраняет связь с идеей домашнего или монастырского хозяйствования, — один из центральных эстетических терминов Византии). За счёт этого его «умаления» перед материалом последний может сохранить и приумножить смысловую весомость своего природного облика.
Как известно, средневековое сознание искало и находило в Библии регламентирующие первообразы всякого человеческого состояния, сана и «чина»; Библия — это «зерцало». Каким же видел себя в этом зерцале художник?
«…И сказал господь Моисею, говоря: смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова, из колена Иудина; и я исполнил его духом божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела. И вот, я даю ему помощником Аголиава, сына Ахисамахова, из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе: скинию собрания, и ковчег откровения, и крышку на него, и все принадлежности скинии, и стол, и все принадлежности его, и светильник из чистого золота, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его… всё так, как я повелел тебе, они сделают» (Исх. XXXI, 1-11).
Художник (и притом специально такой художник, который имеет дело с драгоценными металлами, драгоценными камнями и драгоценными тканями) поставлен здесь, конечно, на большую высоту. Личное избрание милостью божией ставит Веселиила и Аголиава наравне со священниками и царями, вдохновение от духа — наравне с пророками, наименование «мудрых» — наравне с народными наставниками и царскими советниками. Без их труда не может правильно и по заповеди божьей возникнуть скиния, а значит — не может сбыться таинство присутствия бога среди людей; их служение равноценно служению в этой самой скинии Аарона и его преемников. Но как Аарон, совершающий «по чину» всю последовательность предписанных ему ритуальных действий, ни в коем случае не занимается никаким «творчеством», так не занимается им и Веселиил. Дело даже не в том, что этот ветхозаветный искусник стоит под ветхозаветной заповедью, воспрещающей ему всякую фигуративную образность: «…проклят, кто сделает изваянный или литый кумир, мерзость пред господом, произведение рук художника» (Второзаконие, XXVII, 15); «…не делай себе… никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли» (Исход, XX, 4). Сейчас мы смотрим на Ветхий Завет глазами византийского и вообще христианского Средневековья, видевшего как раз фигуре Веселиила первообраз иконописца, данный в обличение иконоборцам, не желающим верить в освящение вещества (такая интерпретация окончательно укореняется со времён Иоанна Дамаскина). Освящение вещества — вот в чём дело. Как раз призванностью Веселиила к освящению вещества — притом вещества особенного, драгоценного, избранного и предписанного свыше, — иначе говоря, как раз теургическим достоинством художника наиболее радикально исключается идея «творчества». Ибо художник поставлен посредничать между двумя реальностями, каждая из которых мыслится настолько реальной и настолько огромной, что сам он уже не может не быть мал: если один из его пределов – полагающая каноны заповедь (вспомним: «…всё так, как я повелел тебе, они делают…»), то, с другой стороны, перед ним стоит вещественность самого
(45/46)
вещества, смысловой вес которой неимоверно возрастает в акте освящения. Поясним примером: если для крещения может быть употреблена из всех жидкостей только вода, «водяность» воды становится очень существенной, [8] и то же самое можно сказать о хлебе и вине как евхаристических субстанциях, о материальном составе мира, об освящённом воске свечей. Избранному и отмеченному веществу сообщается «значительность» и, следовательно, значение. Равным образом, если сам господь на Синае приказывает сделать сакральные предметы именно из золота, а не из какого-либо иного вещества, свойство золота быть золотым само поднимается на уровень сакрального. Изготовляя светильник, как ему было велено, «из чистого золота», Веселиил не становится творцом, приводящим небытие к бытию, но скорее становится похож на священника, который по предписанному порядку «целебрирует» литургию; вот так и он целебрирует таинство золота, сущее в себе самом независимо от него, хотя и совершающееся через него.
Но в чём оно состоит, это таинство золота?
Самое первое, что можно сказать о золоте, — что оно являет созерцающему глазу и умствующему уму образ света, а потому «означает» или «символизирует» свет. В терминах так называемой метафорологии Г. Блуменберга [9] его можно назвать «абсолютной метафорой» света. По слову древнего язычника Пиндара, «золото — огонь, в ночи блистающий», [10] и это переживание облика золота, которое можно назвать общечеловеческим, [11] сохраняет свою силу для греческой культуры ив христианские века. Например, Псевдо-Дионисий Ареопагит пользуется эпитетами «златовидные» и «световидные» (χρυσοειδεῖς и φωτοειδεῖς) как синонимами. [12] Для экзегета VII-VIII веков Андрея Критского очевидно, что достоинство золота состоит в его «блистательности» и «благосветлости». [13] Но золото соединено со светом отнюдь не только чувственными ассоциациями: как следует из одного рассуждения Василия Великого, красота золота есть соответствие красоте света также и по своей глубинной смысловой структуре. Суть этого рассуждения такова: если ходовая и унаследованная от античности дефиниция красоты называет два различных её источника — соразмерность частей и «хорошую» окраску, — то этот дуализм имеет касательство лишь к красоте сложных, составных вещей, в которых части противостоят целому, а субстанция — окраске. Однако красота света — «простая» и «единообразная», в своей самотождественности не знающая членения на части и уровни. Именно этот вид красоты Василий Великий усматривает в звёздах и в золоте. [14]
Здесь мы должны пойти ещё дальше и ещё выше. Ибо красота как простое и неделимое есть ближайшая аналогия красоте или «сверхкрасоте» (το ὑπέρκαλον) бога, как эта последняя описана у Псевдо-Дионисия Ареопагита: «В самой себе и в согласии с самой собой она всегда единообразно прекрасна». [15] Конечно, аналогия есть не более чем аналогия, [16] именно в качестве аналогии предполагающая момент принципиальной «инаковости»: действительно, красота света, не нуждаясь в пропорции частей, всё же нуждается, согласно формуле Василия Великого, в некоей своеобразной «пропорции» между собой и чувством зрения, между тем как красота бога, напротив, безусловно довлеет себе и соотнесена только с самой собой. Свет есть лишь символ божественного, но, впрочем, особый, привилегированный символ. Как золото — «абсолютная метафора» света, так свет — «абсолютная метафора» бога: «Бог есть свет, и нет в нём никакой тьмы» (Первое послание апостола Иоанна, I, 5). Конечно, византийцы отлично умели различать чувственный свет и «свет невещественный» (φῶς τὀ ἄΰλον), но важно понять, что последний отнюдь не был для них безо́бразной абстракцией, пустым иносказанием, как в поговорке «ученье — свет»; что этот невещественный свет действительно светился, сиял, играл лучами! Согласно известному учению, гениально сформулированному на исходе византийского тысячелетия Григорием Паламой, но со времён Псевдо-Дионисия Ареопагита входившему в состав импликаций греческой христианской мистики, аскет на вершине экстаза видит — видит в нечувственном, но абсолютно конкретном, абсолютно не-аллегорическом смысле глагола «видеть» — светоизлучение энергий божества, называемое Фаворским светом. За три века до Григория Паламы Симеон Новый Богослов так описывал своё переживание невещественного света (безусловную запредельность которого он сам подчёркивает):
…Но приходит, лишь захочет,
Как бы в виде светоносном
Облака и, став недвижно,
Над главой моей лучится
Полнотою светолитья,
Понуждая ум и сердце
К ликованью, к исступленью… [17]
Коль скоро свет незримый некоторым образом всё же бывает зрим, хотя, разумеется, не для
(46/47)
чувств и даже не для чувственного воображения, а лишь для ума и для сердца (как знали исихасты, для ума, «сведённого» в сердце), — тогда и зримый, чувственный свет может вполне законно восприниматься как «не-только-чувственный»: иначе говоря, как «икона» незримого. Византийский поэт позволяет себе такими словами говорить о лампаде возле дверей церкви в Студийском монастыре:
У врат святых лампада, осиянная
Лучом господним, светом невещественным, —
И образ неба нам являет храмина… [18]
По классической формуле Псевдо-Дионисия Ареопагита, «вещи явленные суть воистину иконы вещей незримых»; [19] на этом фундаменте Византия построила свою теорию «иконы» (εἰκών) как отображения, отделённого от своего первообраза некоторым важным различием, [20] но позволяющего «энергиям» первообраза реально в нём, этом отображении, присутствовать. Конечно, термин «икона», понятый так, есть термин теологический и онтологический, а никак не просто «эстетический», но если мы всё же ещё раз совершим над ним постоянно совершаемое насилие, отвлекаясь от его собственной смысловой перспективы и сводя к эстетико-гносеологическому остатку, остаток этот окажется по своему значению не так уж далёк от использованного выше новейшего термина «абсолютная метафора». Как бы то ни было, однако, «абсолютная метафора» сама по себе есть явление универсальное; для характеристики же специально византийского, или шире — средневекового, то есть определяемого доктриной Псевдо-Дионисия Ареопагита, способа относиться к «абсолютным метафорам» важно то, что из них выстроена многоступенчатая иерархия, в которой каждый посредствующий член являет собой метафору по отношению к верхнему и денотат метафоры по отношению к нижнему члену (золото — «икона» света, свет — «икона» божественных энергий). [21] Мы словно видим, как зеркало пересылает упавший на него луч другому зеркалу. Так и говорил Псевдо-Дионисий Ареопагит: «Зеркала эти, свято восприняв доверенное им озарение, незамедлительно и без всякой зависти отдают его последующим сообразно с богоначальными законами». [22]
Здесь не место пространно говорить о так называемой метафизике света, [23] столь характерной для всех наследников Псевдо-Дионисия Ареопагита, как византийских, так и западных. Заметим только, что сам по себе образ света в своём качестве духовного символа выявляет по меньшей мере две грани, подлежащие возможно более чёткому различению. С одной стороны, свет — это ясность, раскрывающая мир для зрения и познания, делающая бытие прозрачным и выявляющая пределы вещей. В этом смысле Евангелие от Иоанна говорит о присутствии Христа как о свете: «Ходи́те, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идёт» (XII, 35). С другой стороны, свет — это блистание, восхищающее душу, изумляющее ум и слепящее глаза. В этом смысле «Книга Исхода» говорит о божьей славе как о пламенном блеске: вид славы господней «как огонь поддающий»(XXIV, 17). Этот блеск может быть преимущественно грозным, как огонь, или как молния, или как та «слава света», от которой, по рассказу Деяний апостолов, ослеп Савл (XXII, 11); он может, напротив, быть утешительным и утешным, радующим и согревающим сердце, как вечерняя заря, с которой сравнивает свет божьей славы одно из древнейших греко-язычных церковных песнопений — Φῶς ἱλαρόν ἁγίας δόξης. [24] В конце концов, для библейской психологии страх божий и радость о боге — менее всего исключающие друг друга противоположности, но скорее требующие друг друга корреляты: «Служите господу со страхом и радуйтесь ему с трепетом» (псалом II, 11).
Но страшит блистание или веселит — в любом случае оно отлично от прозрачной ясности постольку, поскольку скорее заполняет кругозор собой, нежели высветляет и тем открывает его. Свойство непроницаемости объединяет «слепящий» блеск с «таинственным» мраком. И потому важно усмотреть, каким дан образ света в веществе золота. Конечно, золото — это не свет как прозрачность, но именно свет как блеск и постольку свет как слава. Недаром в обоих приведённых выше библейских текстах, относящихся к двум эмоциональным модусам блистания, речь шла о «славе господней». Специально в золоте блеск соединён с тяжестью (не только с тяжестью вещества золота, но как бы с тяжестью самого блеска, что проистекает от отсутствия прозрачности); поэтому золото — идеальная эмблема для ветхозаветного понятия «славы», ибо по этимологическому своему смыслу соответствующее древнееврейское слово kab̥ōd означает «тяжесть», а по лексическому употреблению — такую «славу», которая для глаза есть «блеск». У истоков средневековой эстетики, а именно в новозаветном видении Небесного Иерусалима, оба аспекта света — прозрачная ясность и тяжёлое блистание — соединены, причём соединены та-
(47/48)
ким образом, что в качестве их соответствий выступают субстанции стекла и золота: «…город был чистое золото, подобен чистому стеклу» (Апокалипсис, XXI, 18).
Этот символ пронизанного божественными энергиями, «обоженного» и постольку светоносного вещества сохраняет свою значимость для всей христианской традиции в целом, но по-разному материализуется в церковном искусстве Византии и Запада: если Византия разрабатывает мозаику с золотыми фонами, то Запад создаёт витраж. В мозаике даже и самое стекло смальты назначено отражать и преломлять, но только не пропускать свет; его блистание, как и блистание золота, не прозрачно. Напротив, в витраже торжествует именно прозрачность стекла. [25] Так христианский Восток и христианский Запад по-своему расставляют акценты на двух различных полюсах двучленной эмблемы Апокалипсиса. Возьмём на себя риск сказать, что таинственная непроницаемость золотого блеска как-то соответствует учению Псевдо-Дионисия Ареопагита о божественном мраке как синониме божественного света: «Свет этот незрим по причине чрезмерного блеска и недосягаем по причине преизбытка сверхсущностного светолития, и в этот мрак вступает всякий, кто сподобился познавать и видеть бога именно через не-видение и не-познавание, но воистину возвышается над видением и познаванием, … возглашая вместе с псалмопевцем: дивно знание твоё для меня, укреплено оно, и не могу я подняться к нему». [26] Конечно, таким языком говорили и мистики Запада; но на Западе мистику уравновешивала схоластика с её стремлением сделать сквозную перспективу бытия просматриваемой, — и не этому ли стремлению отвечает прозрачность витража? [27] Вспомним, что когда Фома Аквинский комментирует тексты Псевдо-Дионисия Ареопагита, говорящие о невозможности интеллектуального созерцания бога, он умеет в пределах самой благоговейной интерпретации очень решительно переставить акценты. Ибо для Фомы ударение лежит не на таинственной непроницаемости «света невещественного», но, напротив, на его прозрачной ясности; отсюда ждёт он высшей награды для благочестивого ума. [28]
Являя собой образ пламенеющего блистания божьей славы, золото имеет особое отношение к персонификациям этой славы — к ангелам. Естество ангела всецело духовно, «у́мно», как это называется на традиционном языке аскетики, — и в силу своей «умности» огненно, «огнезрачно». Почему это так, объяснит нам философ Прокл Диадох, и к объяснению его придётся прислушаться, несмотря на то что этот современник II и III Вселенских соборов был язычником и постольку едва ли может быть причислен не только к византийской, но даже к «протовизантийской» культуре; но фундаментальные аксиомы вневероисповедной мистики того мира, который был позднеантичным и готовился стать византийским, этот неоплатоник выразил самым классическим образом. И вот он говорит коротко и ясно: «…огонь есть отображение ума». [29] Но мы найдём этому подтверждения и в собственно византийской литературе. Одна эпиграмма на чеканную икону Михаила Архангела с магической выразительностью связывает природу ангела, пламенный свет и блистание драгоценного металла, одновременно намечая рассмотренную нами выше эмоциональную амбивалентность блистающей «славы» как ободрения и угрозы:
Твой лик — из злата, из сребра — лучи твои
Чеканю; мне будь светом, а врагам — огнём. [30]
Так обстоит дело с золотом как образом света. Но теперь мы снова должны пойти дальше — на сей раз не по смысловой вертикали, но по смысловой горизонтали. Золото связано не просто со светом, но специально со светом солнца; мало того, если верить тайноведению позднеантичных оккультистов, субстанция золота представляет собою не что иное, как застывшие в земле солнечные лучи. Здесь мы можем снова обратиться за консультацией к Проклу: «И золото, и серебро, и каждый из металлов… зарождается в земле от небесных богов и от исходящего свыше излучения; поэтому говорится, что золото принадлежит Солнцу, серебро — Луне, свинец — Сатурну и железо — Марсу». [31] Прокл высказывает это утверждение не от своего имени, хотя не называет своих источников; но достаточно заглянуть в алхимические трактаты поздней античности, Византии и Востока, чтобы уяснить себе, на какую традицию он опирался. Вообще говоря, соответствие между металлами и астральным миром — общее место алхимической спекуляции; но тогда как в попарной группировке многих металлов и звёзд наблюдаются колебания (например, планета Меркурий первоначально связывалась с железом и лишь впоследствии была осмыслена как эмблема ртути), — сопряжение Солнца и золота остаётся непререкаемым со времён Ветия Валенса (II в. н.э.) до конца Средневековья и даже далее. [32] Общий знаменатель символики золота и символики
(48/49)
Солнца — идея сакрального царя, приносящего подданным «золотой век», или, что то же, «царство Солнца». [33] Ибо Солнце есть царь: «оно зовётся царём всего зримого», как свидетельствует тот же Прокл. [34] В Ветхом Завете пророк Малахия так говорит о наступлении мессианского царства: «…взойдёт Солнце правды» (IV, 2); для христианства словосочетание «Солнце правды» есть одно из имён Христа как истинного царя мессианского царства. Но и золото — атрибут и эмблема царского достоинства; как изъясняет византийский экзегет смысл даров, принесённых волхвами, «золото принесли ему как царю, ибо царю мы, как подданные, приносим золото». [35] Ветхозаветный образ Соломона, как царя по преимуществу, [36] весь окружён золотым блистанием (ср., например, описание золоточеканных работ в Соломоновом храме: Третья книга Царств, VI, 15; VII, 51, и Вторая книга Паралипоменон, III, 4). В псалме XXI, имеющем надписание «О Соломоне», говорится: «…и будут давать ему от золота Аравии» (ст. 15). Золотая слава отмечает и облик священной невесты сакрального мессианского царя: «…стала царица одесную тебя в Офирском золоте; … одежда её шита золотом» (псалом XLIV, 10, 14).
Как известно, это последнее место единодушно понималось в христианской традиции как пророчество о Деве Марии. Здесь мы подходим к тому, что чистое золото способно символизировать чистоту девства. Ибо девство есть для византийца не только духовный свет, но именно духовное блистание, или, лучше сказать, «преблистание» — τὀ ὑπέρλαμπρον τῆς ἁγνείας. [37] Понятно поэтому, что Богородица может быть названа как «златоблистательная опочивальня Слова» (παστὰς χρυσαυγὴς τοῦ Λόγου), [38] а также «всезлатой сосуд», [39] «ковчег, позлащённый духом», [40] — примеры можно было бы умножать без конца. В этом месте смысловые сцепления чрезвычайно плотно сходятся к одной точке. Ведь девство — это не что иное, как «цело-мудрие», телесная и духовная целость и неущербленность; скажем на языке эпохи, верившей в нетление мощей: это состояние плоти, избегнувшей прижизненного рас-тления и потому достойной избегнуть посмертного ис-тления. Когда Акафист Богородице именует её «цветок нетления» (ἄνϑος τῆς ἀφϑαρσίας)[41], слово ἀφϑαρσία сводит к неразличимому единству оба понятия: нравственную убережённость от разврата и физическую убережённость от распада. Вещество сплачивается и сдерживается выдержкой целомудрия, и оно расточается своеволием греха. Для византийца, в проникновеннейших сетованиях погребальных канонов оплакавшего неизбежность могильного тлена как срам для человека, и притом именно как материализацию Адамова греха, такой путь ассоциаций был ничуть не странным, но очень осмысленным.
Вспомним, какое почётное место было предоставлено в византийской иконографии символу павлина, и это лишь потому, что позднеантичное суеверие приписало мясу этой птицы способность сопротивляться гниению; павлин являл собой эмблему исконно православной надежды на «обожение» плоти, на вещественное «прославление» мощей. Плотность и сплочённость вещества в золоте, и впрямь не допускающая в себя тлен, тоже была такой эмблемой. Символизирующая мысль силилась сделать для себя наглядным состояние Божьей твари до грехопадения Адама в том «начале», когда всё было, по рассказу Книги Бытия, «хорошо весьма», — и главным образом её же состояние в результате конечного космического освящения и врачующего «восстановления» («апокатастасиса», о котором так много размышлял Максим Исповедник), когда всё будет исправлено, искуплено, исцелено от недуга тленности.
Итак, вещество недужно, но это не есть его должное состояние; его можно вылечить и претворить в нетленный золотой блеск. Образы этой метаморфозы притягивали в те времена не только богословов или церковных поэтов, но также специалистов совсем иной категории, имевших по роду своих занятий самое непосредственное отношение к материальному золоту: алхимиков. Как раз на переломе от поздней античности к византийскому средневековью алхимия испытала бурный расцвет; знаменитые систематизаторы алхимических доктрин Зосим Панополитанский (IV в.) и Олимпиодор (V в.) были современниками виднейших греческих отцов церкви. Современниками — и в некотором смысле собратьями, хотя и сомнительными, едва ли не отверженными собратьями: «блудными сынами» того же семейства. Отношение Византийской церкви к алхимии было таким, каким только и может быть отношение всякой церкви ко всякой оккультной дисциплине, то есть отрицательным (ещё со времён апокрифической Книги Еноха было принято связывать начало магических операций с металлами с внушениями совращённых своей похотью падших ангелов VI-й главы Книги Бытия). Но и отношение алхимии к современному ей богословию было, в свою очередь, таким, каким только и
(49/50)
может быть отношение всякой оккультной дисциплины ко всякой религиозной или научной ортодоксии, то есть оглядкой подражания на более или менее фантастически передразниваемый образец. Сходство языка алхимиков с языком теологов заходило необычайно далеко; оно отнюдь не могло улучшить отношений между теми и другими, но нам может дать в руки некий общий знаменатель систем ранневизантийской символики. Начать с того, что алхимики называли свою дисциплину «божественной наукой» (ϑεῖα ἐπιστήμη), то есть именем, по праву принадлежащим одной теологии. Это было «божественное и священное художество», «мистическое художество философов». [42] Алхимический акт обозначен у Зосимы Панополитанского как «пресуществление» вещества (μεταβολή) и этим приравнен к таинству евхаристии, к «преложению» хлеба и вина в тело и кровь Христовы. [43] Цель алхимии есть как бы второе сотворение космоса из хаоса и одновременно второе искупление космоса через высвобождение силы «божественного духа» (ϑεῖκον πνεῦμα) в недрах материи. [44] Скажем, если свинец тёмен и лишён золотого блистания, это связано с недугом вещества, с его порчей, с утратой им своей блистающей «души»; всякое неблагородное вещество есть как бы падшее золото. Однако алхимик, выступая в роли Искупителя и Спасителя, властен даровать этому падшему золоту новую «душу» силой тинктуры; а тинктуру греческие адепты алхимии обозначали термином πνεῦμα βαπτικόν, что в принципе можно перевести как «крещальный дух». Таким образом, алхимический акт оказывается не только аналогом таинства евхаристии, но также аналогом таинства крещения. Недужная чернота свинца должна быть претворена в блистающую славу золота: этот образ вызывает в памяти слова византийской стихиры на праздник Преображения:
Очерневшее Адамово естество
преображая, снова ты понудил блистать,
претворив его в божества твоего
славу и во светлость.
Поскольку алхимик помышляет вернуть естество вещей к его «правильному» состоянию, он называет свою работу «великое врачевание». Золото именовалось «красная кровь», и притом потому, что красная кровь — атрибут здоровья; как лечение производит из больной и бледной крови здоровую и красную, так «великое врачевание» алхимика производит из порченого вещества благородный металл. [45] Золото, эмблема нравственной целости, то есть целомудрия, есть также эмблема телесной целости, то есть здоровья, и потому алхимик есть двойник врача; но золото есть ещё и эмблема нетления, и потому алхимик есть двойник мастера нетления, каковым был специалист по изготовлению мумий. Недаром алхимия вышла из Египта, классической страны мумифицирования. На заре алхимии обе специальности чаще всего, несомненно, совмещались в одном лице.
Отметим ещё один смысловой нюанс. Путь вещества к алхимическому просветлению — тернистый путь: он ведёт через огненные муки и через уничижение бесформенности. Для того чтобы облечься в полноту блеска, вещество должно поначалу совлечься всякого облика; чтобы стать «златоцветом» (χρυσάνϑιον), оно должно поначалу стать мёртвым и бескачественным «черноцветом» (μελάνϑιον), о котором писал византийский алхимик VI-VII веков, известный под псевдонимом Христианин. [46] Псевдоним подходит к нему неплохо: символика предельного унижения на пути к предельной славе, символика последнего нетлевания ради последнего нетления — это христианская символика. [47] Черноту монашеских одежд, имеющую преобразиться в белое и золотое сияние апокалипсического будущего века, [48] можно сравнить с чернотой «черноцвета». Но ведь не одно только золото алхимиков, а и вообще всякое обработанное человеческим искусством золото на пути к блеску проходит сквозь огонь. Горнило, в котором «истязуется» благородный металл, уже в Ветхом Завете стало символом для «горнила испытаний», в котором испытуется человеческая душа. «Плавильня для серебра и горнило для золота, а сердца́ испытует господь» (Книга притчей Соломоновых, XVII, 3); «Тогда настанет испытание избранным моим, как золото испытывается огнём» (Третья книга Ездры, XVI, 74). И для Нового Завета золото есть не просто нечто блистающее и драгоценное, но связано с идеей страдальческого очищения и грозного испытания. Ангелу Лаодикийской церкви, вялый дух которой «ни холоден и ни горяч», говорится: «Советую тебе купить у меня золото, огнём очищенное, чтобы тебе обогатиться» (Апокалипсис, III, 18). Другой новозаветный текст увещевает христиан быть стойкими во время гонений: «…дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнём испытываемого золота» (Первое послание апостола Петра, I, 7). Поэтому драгоценный металл становится специально эмблемой мученичества. Уже в древнем описании мученической кончины Поликарпа гово-
(50/51)
рится: «…и был он в средоточии огня не как плоть горящая, но как злато или сребро, в пещи разжигаемое». [49]
Оглянемся ещё раз на пройденные пути. Золото было для византийца образом света как истины и славы и через это образом божественных энергий, действующих в веществе. Но горящий в золоте свет есть именно солнечный свет, и постольку царственный свет — отсвет того «золотого» века, в котором царские полномочия принадлежат царю-Солнцу, того положения вещей, которое было желаемым для византийской веры и выдавалось за действительное византийской государственностью. Сказочный золотой век ассоциируется для византийца с библейским раем, не знающим порчи греха и порчи тлена; поэтому золото есть постоянная метафора для девства и нетления. Символические нити на наших глазах соединяются в пучки, сходятся воедино. Слава девства и золотая слава царства — одно и то же в Невесте из XLIV псалма. Нетление, здравие и жизненная сила крови — одно и то же в золоте алхимических доктрин. Но самое главное: чтобы загореться чистым блеском, золото должно перегореть в истязующем и испытующем огне и очиститься в нём, как очищается «горящее» человеческое сердце. Блистательность золота сродни блистательности мучеников — самых блистательных, самых изящных, самых праздничных персонажей византийской и древнерусской иконографии.
[1] Тhucid. II, 40 (в русском переводе: Фукидид. История. Т. 1 / Перевод Ф. Мищенка. М., 1915, стр. 121 — передано «без прихотливости», что не вполне соответствует смыслу греческого текста).
[2] Dion. Chrysost. Orat. XII, 49-75 (в русском переводе: Памятники позднего античного ораторского и эпистолярного искусства II-V века. М., 1964, стр. 24-30).
[3] Pausan. Graeciae descr. V, 12, 3 (в русском переводе: Павсаний. Описание Эллады [Том II] / Перевод С.П. Кондратьева. М., 1940, стр. 35). Здесь и далее переводы автора статьи.
[4] Новоевропейская поэзия переняла освящённое античной мифологией и античной литературой метафорическое использование эпитетов, связанных с символом золота (невозможно было читать древних авторов и ничего не узнать о золотом веке и золотой Афродите). Но эпитеты эти до крайности бесплотны и лишены наглядности: слово «золотой» означает в таком употреблении только само себя (т.е. сумму словесных же ассоциаций, им вызываемых), и если оно светится в строке поэта, то своим собственным сиянием, а отнюдь не блеском «настоящего» золота. Никого не удивит, конечно, что пушкинское «златые дни, златые ночи» чуждо какой бы то ни было наглядности — дни и тем более ночи не могут быть даже зрительно похожими на золото, не только сделанными из золота. Но стоит задуматься над тем, что, даже когда метафорика золота могла бы стать наглядной, этого не происходит. Вспомним строку О.Э. Мандельштама: «А счастье катится, как обруч золотой…» Реальный золотой обруч есть вещь вполне вообразимая — и все же читателю никоим образом не рекомендуется представлять себе этот выкованный из тяжёлого блеска обруч (хотя бы потому, что обруч счастья, несомненно, лёгок — «и колесо вращается легко…»).
[5] Cp. G. Mathew. Byzantine Aesthetics. London, 1963, p. 76.
[6] В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. СПб.-М., 1882, стр. 404-405.
[7] Этот контраст составляет специальную тему чрезвычайно интересных рассуждений в работе П.А. Флоренского «Иконостас».
[8] Православный чин церковной службы на Крещение господне представляет собою необычайно выразительную антологию библейских и гимнографических текстов, посвящённых субстанции воды в различных аспектах её символики.
[9] H. Blumenberg. Paradigmen zu emer Metaphorologie. — «Archiv für Begriffsgeschichte», 6, 1960, S. 123 ff.
[10] Ol. I, 1.
[11] Так, приравнивание блещущего золота и блещущего огня характерно для славянских поверий. Ср. А.А. Потебня. О некоторых символах в славянской народной поэзии. Харьков, 1914, стр. 175: «Клад, как известно, есть огонь, потому что горит пламенем белым, красным, жёлтым, смотря по металлу. По польскому рассказу, каждая попытка одной пани взять горсть золота из клада ведет за собой пожар в одном из её сёл».
[12] Coel. Hierarch., II, 3. — J.-P. Migne. PG, t. 3, col. 141.
[13] In Apocalypsin XXI, 17 et 21 (в русском переводе: Андрея, архиепископа Кесарийского, Толкование на Апокалипсис, пер. П.М.Б. М., 1902, стр. 183 и 186).
[14] In Hexaem. II, 7. — J.-P. Migne. PG, t. 29, col. 45.
[15] De divin noimn., IV, 7. — J.-P. Migne. PG, t. 3, col. 701.
[16] «Аналогия» (греч. ἀναλογία) — один из основных терминов Псевдо-Дионисия Ареопагита: он означает парадоксальное подобие в неподобии, сопрягающее различные уровни иерархии бытия, обеспечивающее единство этой иерархии и создающее возможность восходить от чувственного к сверхчувственному.
[17] Syméon le Nouveau Théologien. Hynmes, t. 2. Paris, 1971, p. 36.
[18] R. Cantarella. Poeti bizantini. Milano, 1953, p. 151.
[19] Epistola. — J.-P. Migne. PG, t. 3, col. 1117.
[20] Об этом различии как важном моменте самого понятия «иконы» (образа) говорит в своей дефиниции «иконы» Иоанн Дамаскин (De imag., I, 9. — J.-P. Migne. PG, t. 94, col. 1240).
(51/52)
[21] В чисто эстетическом плане эта строгая вертикальная организация делает средневековую символику архитектоничной и выгодно отделяет её от безответственной игры в «соответствия», которая процветала уже в барокко и особенно в символизме конца XIX — начала XX в. Двусмысленность взаимоперехода колеблющихся смыслов — совсем не то, что добротно сработанная лестница смысловых ярусов, о которую не страшно опереть стопу при крутом восхождении.
[22] J.-P. Migne. PG, t. 3, col. 165..
[23] О понятии и сущности метафизики света см.: А.Ф. Лосев. Античный космос и современная наука. М., 1927, стр. 37 и прим. 24 на стр. 269-272; W. Вierwaltes. LUX INTELLIGIBILIS. Untersuchungen zur Lichtmetaphysik der Griechen. München, 1957.
[24] В традиционном переводе «Свете тихий святыя славы»; однако греческое слово ἱλαρός означает скорее «весёлый», «ясный», в позднем языке — «приветный», «милостивый». Все эти смысловые оттенки едва ли не наиболее адекватно передаются русским словом «утешный», как это слово употреблено, например, в строке А.А. Ахматовой: «…Солнца зимнего утешный свет…» Заметим, что в одном позднеантичном магическом тексте слово ἱλαρός приложено к блистанию золота («Papyrus magica Lugdunensis», X, 17).
[25] Любопытно, что даже мистический символ «розы», описываемой в литературных текстах средневекового Запада как «золотая роза», реально изображался прозрачным стеклом витража.
[26] Epistola V. — J.-P. Migne. PG, t. 3, col. 1974.
[27] He будем уподобляться беллетристам прошлого и настоящего, которые описывали и описывают цветной свет, льющийся из витражей, прежде всего как «мистический полумрак» и постольку как бы зрительно данное отрицание рационализма. Если современный глаз, привыкший к большим пространствам бесцветного стекла, впускающим потоки белого света, так воспринимает освещение готического собора, это характеризует только привычки нашего зрения и не имеет ни малейшего касательства к тому смыслу, который был вложен в облик витража его создателями. Воспринимать витраж по контрасту с нашими окнами — то же самое, что воспринимать Фому Аквинского по контрасту с позитивизмом XIX века, вместо того чтобы соотносить его с предшествовавшим ему августинизмом.
[28] «Некоторые пришли к заключению, что ни один сотворённый интеллект не может видеть природу бога. Но это ложное заключение; ибо коль скоро предельное блаженство человека состоит в его высшей деятельности, то если бы он не был способен лицезреть бога, из этого вытекало бы, что он либо никогда не достигнет предельного блаженства, либо блаженство это сокрыто в чём-то ином, а не в боге; то и другое противно христианской вере. Более того, это несообразно и с философской точки зрения, коль скоро человеку прирождена потребность познать причину, когда он видит следствие, … и если бы интеллект разумных творений никогда не смог бы лицезреть первопричину вещей, эта природная потребность оказалась бы бессмысленной» (Summa theol., I, q. XII, a. 1).
[29] In Cratylum, CLXX, p. 9326 Pasquali.
[30] «Anecdota Graeca», ed. J.Fr. Boissonade, v. II. Parisiis, 1830, p. 477.
[31] In Timaeum, 14 В, р. 432-7 Diehl.
[32] J. Lindsey. The Origins of Alchemy in Greco-Roman Egypt. London, 1970, p. 217.
[33] Царство Солнца, государство Солнца, город Солнца — необходимый компонент в лексиконе политехнической утопии от Аристоника до Кампанеллы, но в то же время общее место позднеантичного и византийского придворного красноречия (ср. А.П. Каждан. Византийская культура. М., «Наука», 1968, стр. 85). Если Людовик XIV назывался «король-солнце», то и в этом отношении, как во многих других, французский абсолютизм был наследником испанского, а испанский — византийского (отчасти через посредство так называемой Священной Римской империи).
[34] In Timaeum, 4, p. 279 F, III, 13128 Diehl.
[35] Феофилакт Болгарский. Благовестник. СПб., [б.г.], стр. 21 (толкование на Евангелие от Матфея, гл. II).
[37] «Antologia Graeca Carminum Christianorum». Adnotav. W. Christ et Μ. Paranikas. Lipsiae, 1871, p. 56.
[38] P. Ρitra. Analecta sacra spicilegio Solesmensi parata, t. I. Parisiis, 1876, p. 266.
[39] Ibid., p. 265. Слово πἀγχρυσος выражает идею целостной, однородной, неподдельной, сплошной драгоценности предмета и потому особенно пригодно, чтобы символизировать идею целомудрия.
[40] Мы снова вернулись к художеству ветхозаветного Веселиила: C.A. Trypanis. Fourteen Early Byzantine Cantica. Wien, 1968 («Wiener byzantinische Studien», V), p. 39.
[41] Ibid., p. 35.
[42] «Reallexikon für Antike und Christentum», Bd. I. Stuttgart, 1950, col. 239-260.
[43] E.O. von Lippmann. Entstehung und Ausbreitung der Alchimie. Eine Beitrag zur Kulturgeschichte. Berlin, 1919, S. 79.
[44] Ibid., S. 78.
[45] Всё это место есть пересказ «близко к тексту» рассуждения Олимпиодора (col. II, 73, 72; 92, 96; 73, 96).
[46] См. Е.А. von Lippmann. Entstehung und Ausbreitung der Alchimie, S. 193.
[47] Примеры иносказательного использования алхимических символов на заре византийской аскетики см.: М. Pulver. Vom Spielraum gnostischer Mysterienpraxis. — «Eranos-Jahrbuch 1944». Zürich, 1945, S. 277-325.
[48] «Поток драгоценной субстанции протекает сквозь Апокалипсис. Повсюду светится золото: золотые пояса, диадемы, чаши и гусли. Золотое и белое. Старцы восседают в белых одеждах с золотыми поясами. Ангелы ходят в белых льняных ризах и носят в руках золотые предметы… Повсюду встречает нас в Апокалипсисе белая чистота и мерцающее золото» (R. Guardini. Das Bild vom Jesus dem Christus im Neuen Testament. — В книге: R. Guardini. Ein Gedenkbuch mit einer Auswahl aus seinem Werk. Leipzig, 1969, S. 294-295).
[49] «Ausgewählte Märturerakten…», hrsg. von O. van Gebhard. Berlin, 1902, S. 8.
|